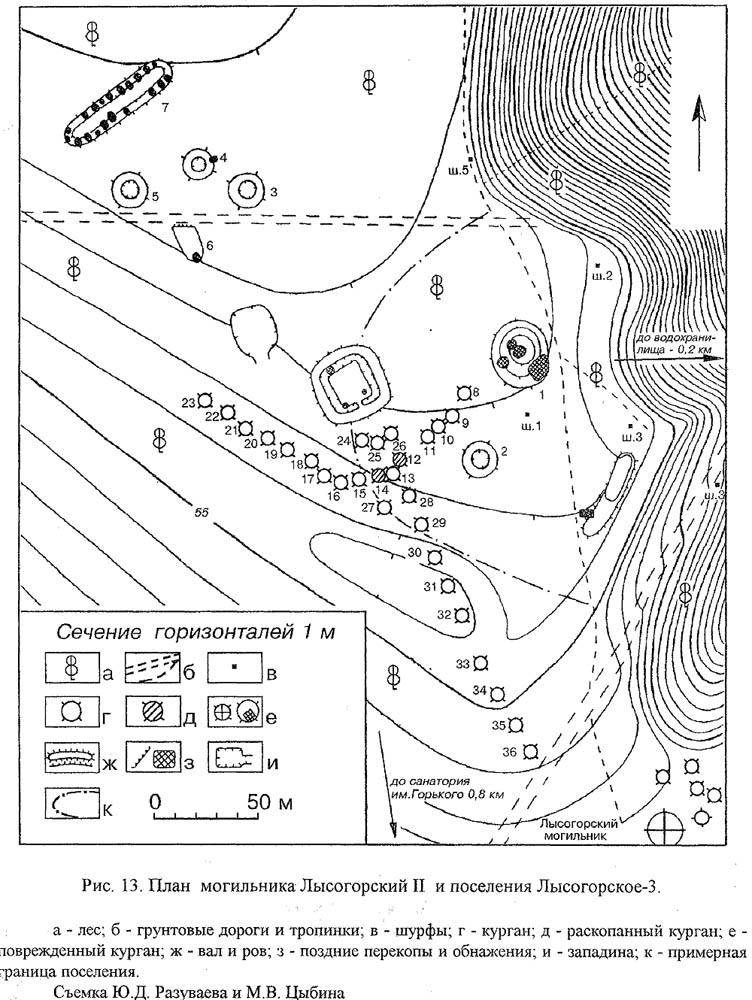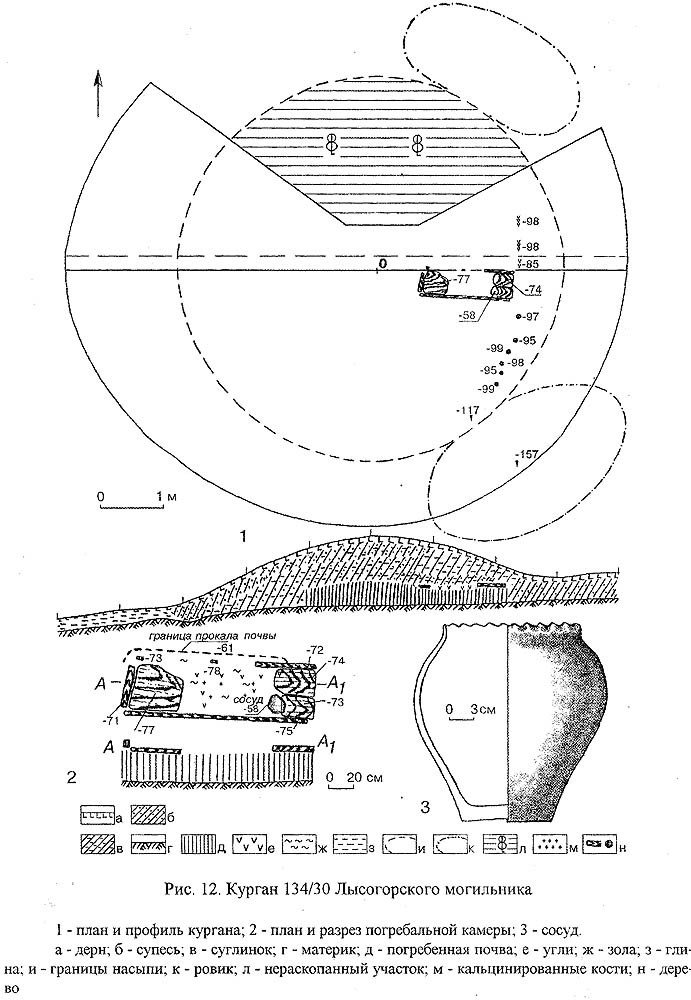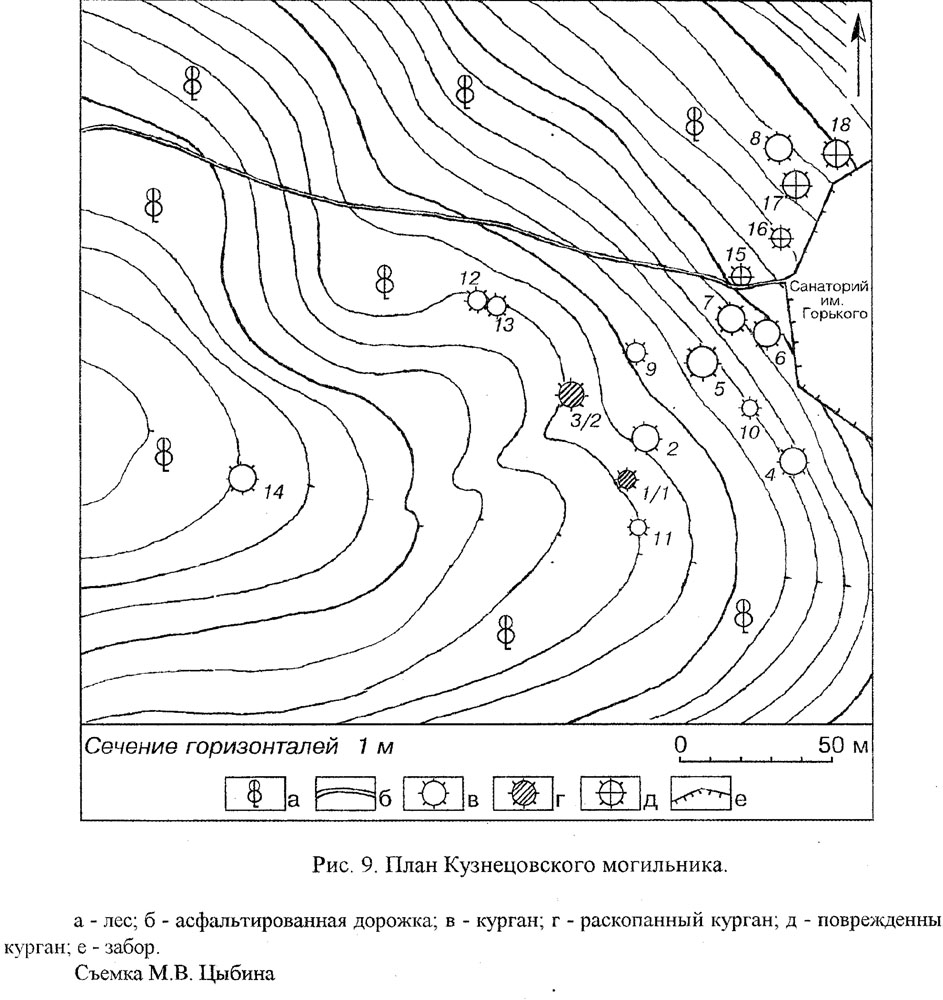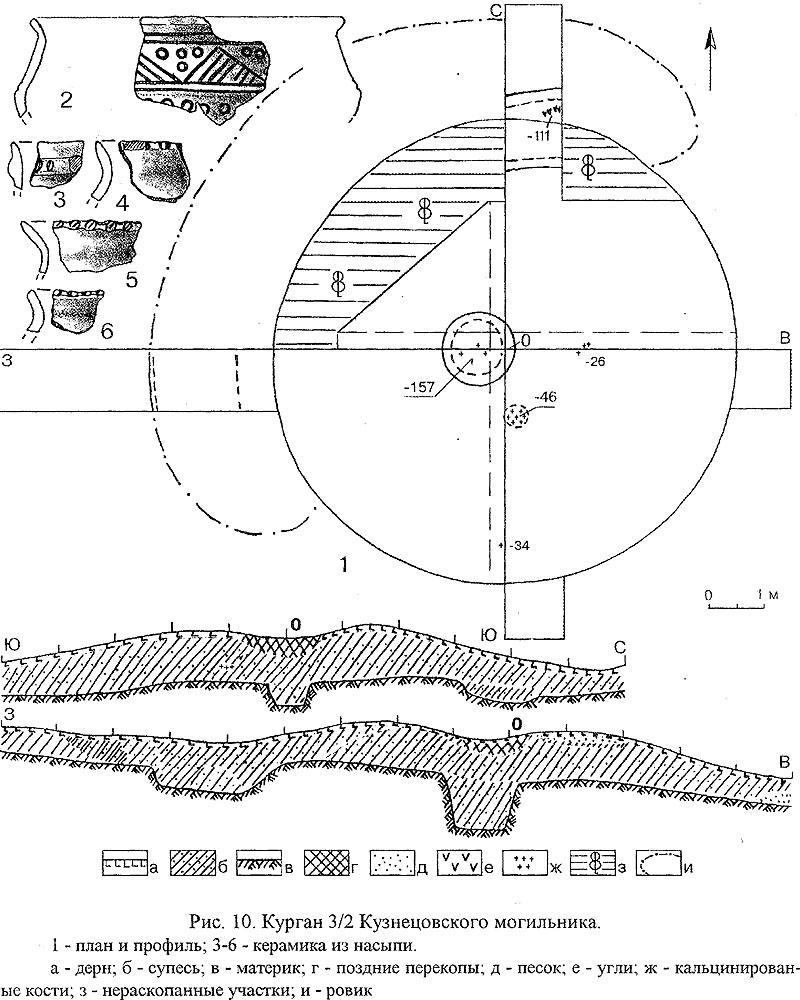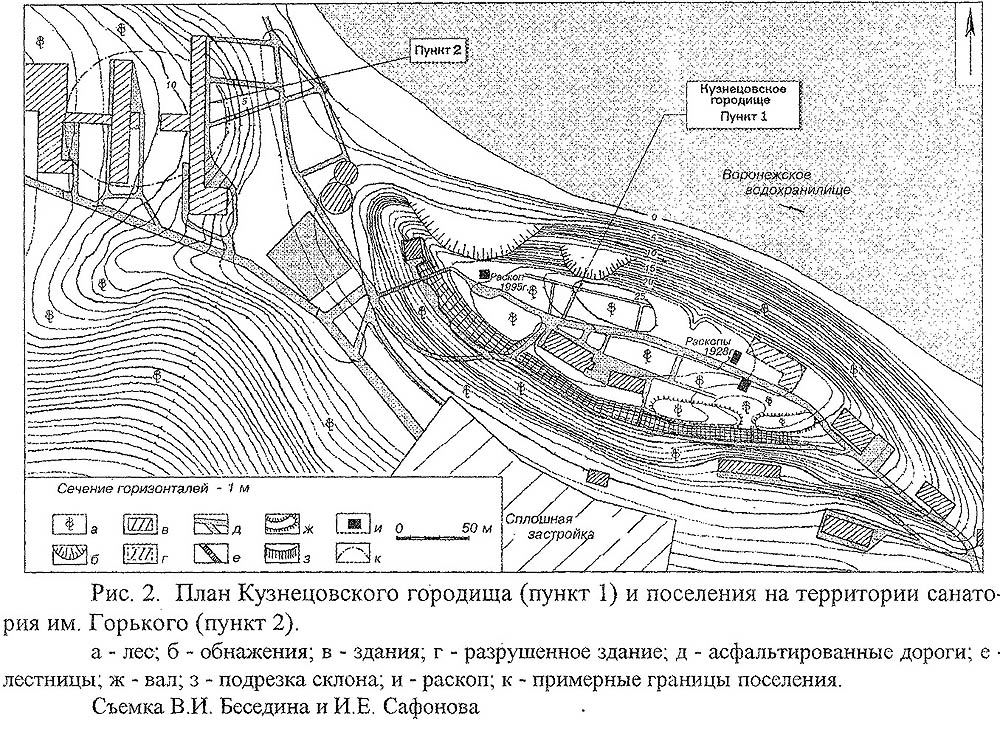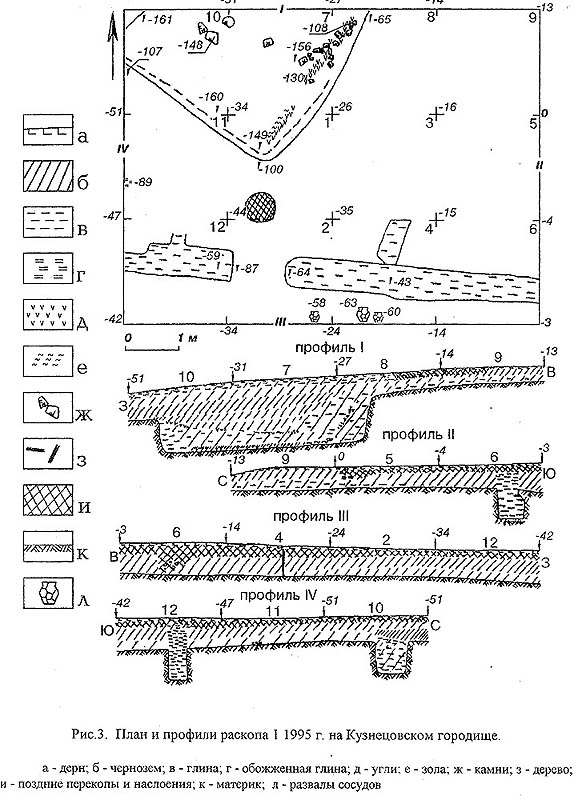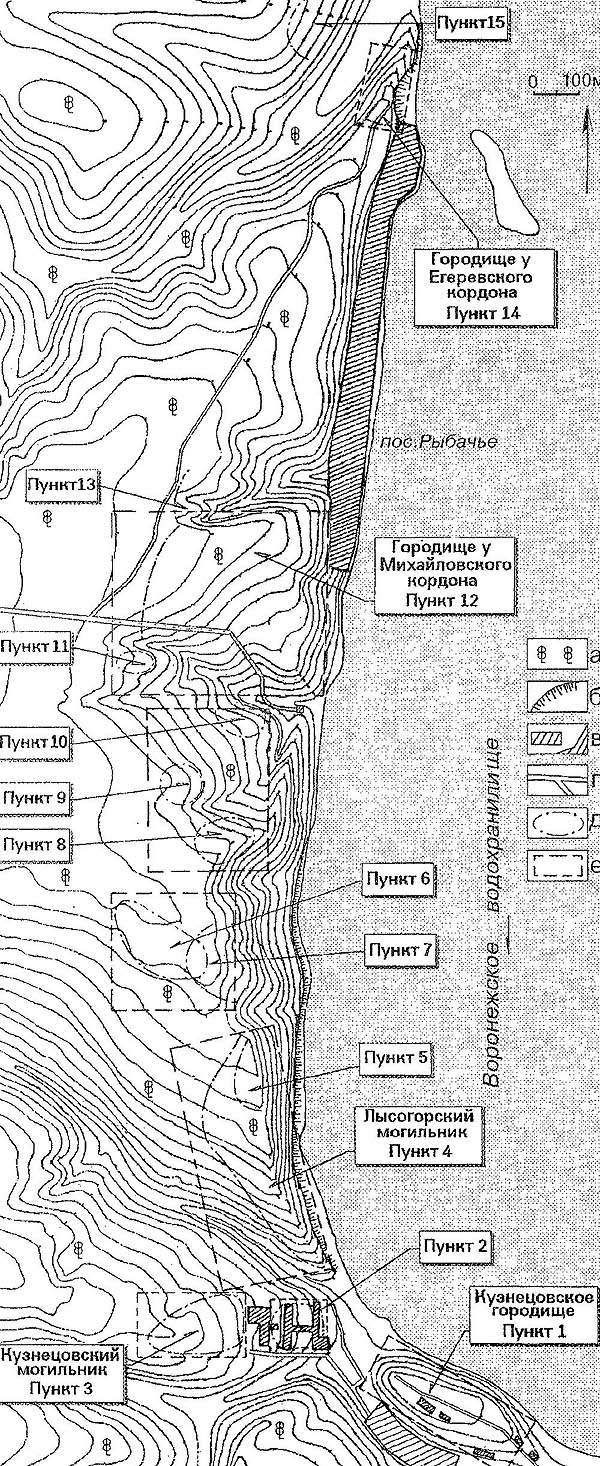Поселение датируется ранним железным веком. Открыто экспедицией Воронежского университета в 1994 г. Выявлено на участке берегового плато, занятом II Лысогорским курганным могильником (см. рис.1; 13).
Поселение расположено на краю плато, высота которого над уровнем водохранилища 50 м. Судя по распространению керамики, размеры поселения не менее 100 х120 м. Территория памятника поросла лесом. Имеются перекопы военного времени.
Культурный слой имеет толщину 0,5 м и состоит из супеси. Материк - глина. В шурфах 1 и 2 найдены обломки миски и восемь стенок лепных горшков раннего железного века, в том числе одна с "рогожной" поверхностью, а также кость животного.
Памятник открыт в ходе работ по теме. Исследовался раскопками под рук. Ю.Д. Разуваева в 1993 г., когда были вскрыты две насыпи. В результате шурфовки 1994 и 1995 гг. на территории могильника выявлено наличие слабо насыщенного культурного слоя, содержавшего свидетельства раннего железного века (объект 7).
Могильник находится в 0,8 км к север-северо-западу от санатория им.М.Горького. Занимает возвышенный участок берега реки, размеры которого 250x300 м. Территория могильника с востока ограничена склоном правого берега р.Воронеж, а с юго-запада - большой балкой. Крайние курганы находятся примерно в 60 м от курганов славянского Лысогорского могильника. Территория поросла лесом, на ней имеется значительное количество перекопов и котлованов периода Великой Отечественной войны.
Могильник представляет собой группу курганов и сооружений, видимо, культового характера (рис. 13).
Наиболее крупным является курган 1, диаметр которого 28 м, высота достигает 2,8 м. Его насыпь в значительной степени разрушена поздними перекопами. Из нее происходят фрагменты керамики эпохи бронзы и раннего железного века.
В 50 м западнее располагается культовая площадка. Она подквадратной формы. Размеры в пределах 15x15 м. Площадка с внешней стороны ограничена валом и рвом (по основанию вала размеры сооружения 33x33 м). Углами она ориентирована по сторонам света с угловым смещением в 15-20°. Вал имеет ширину 5 м ( по углам - несколько меньше). Его высота от современной дневной поверхности составляет 0,35-0,4 м. Ров шириной 4 м, глубиной 0,45-0,55 м.
В центре юго-восточной стороны площадки находится вход, фиксирующийся по перемычке во рву шириной 2,5 м.
На площадке и во рву есть три поздних перекопа.
Южнее площадки располагаются 29 курганов диаметром 6-7 м, высотой 0,3-0,5 м. Одиннадцать насыпей (25, 13, 28-36) составляют цепочку, начинающуюся в 15 м от входа на площадку и тянущуюся по одной линии с ним на 160 м. Четко выдержан принцип расположения насыпей в створе входа. К началу этой цепочки с двух сторон примыкают остальные курганы. Причем пятнадцать насыпей (курганы 8-12, 14-23) огибают культовую площадку с юга по дуге, общая протяженность которой около 145 м.
Раскопки двух небольших насыпей (курганы 12 и 14) показали, что их насыпи состоят из супеси темно-серого цвета. Материк - глина. Курган 12 имел диаметр 6 м, высоту 0,36 м от уровня погребенной почвы, представлявшей собой светло-серую супесь толщиной 0,2 м. Курган 14 имел диаметр 7 м, высоту 0,6 м от уровня погребенной почвы. Мощность погребенной почвы в пределах 0, 25 м. В насыпях обоих курганов встречались фрагменты керамики раннего железного века. Погребения отсутствовали.
Не исключено, что культовая площадка и группа примыкающих к ней небольших курганов относятся к сарматскому времени.
На расстоянии 20 м от северо-западного угла святилища находится обширное углубление, имеющее размеры 20x25 м, при глубине до 1,4 м. Не исключено, что здесь выбиралась земля для сооружения курганов 8-36, в сторону которых направлен пологий спуск в котлован.
На северо-западном крае могильника находятся два валообразных сооружения (6 и 7) и три округлые насыпи (3-5). Еще одна округлая насыпь (2) расположена недалеко от большого кургана 1.
Одно валообразное сооружение имеет длину 18 м, ширину 10 м, высоту 0,5 м. Оно частично разрушено грунтовой дорогой, проходящей по просеке. Другое сооружение имеет длину 57 м, ширину 14 м, высоту около 1,5 м. Оно в значительной степени разрушено котлованами военного времени.
Округлые насыпи имеют диаметр 15-17 м, высоту 0,3-0,4 м. Их верхняя часть уплощена и понижается в центре. Назначение и датировка валообразных сооружений и округлых насыпей пока не ясны. Подъемный материал относится к скифскому времени.
В юго-восточной части могильника, у края берегового склона, выявлен вал неизвестного назначения. Его длина 40 м, ширина 8 м, высота 0,5-0,7 м.
Рекомендована единая для могильника и расположенного здесь же поселения Лысо-горское -3 (пункт 7) охранная зона, включающая территорию размерами 260 х 320 м (см. рис.1).
Находится в северной части Лысогорского могильника (см. рис. 11). О наличии здесь более раннего, чем могильник поселения исследователи писали неоднократно.
Поселение впервые зафиксировано экспедицией Воронежского университета при обследовании Лысогорского могильника в 1952 г. по остаткам разрушенной береговым обнажением славянской полуземляночной постройки. Тогда были выявлены остатки печи каменки, обломки лепных сосудов. Культурный слой толщиной 0,2 м с находками славянского времени прослежен и в 1961-1962 гг. С поселением могло быть связано и бескурганное погребение, встреченное при раскопках могильника. Заметим, что использование территории Лысогорского могильника в сельскохозяйственных целях до его возникновения установлено палеопочвенными исследованиями отдельных курганов. Судя по полученным ранее материалам, поселение, по времени предшествующее возведению курганов Лысогорского могильника, относится к кругу славянских древностей .
В 1994 г. с целью определения границ поселения в разных местах на территории могильника было заложено 4 шурфа. Однако слоя славянского поселка в площади большинства из них выявить не удалось. Только в шурфе 3, располагавшемся у северного края могильника, выявлен слой серой супеси толщиной 0,45 м, откуда происходит фрагмент стенки лепного сосуда, В продолжение этих работ в 1995 г. на двух участках длиной 3 м каждый проведена зачистка обнажения берегового склона. Наличие культурных остатков зафиксировано именно в северной части мыса, где мощность слоя, состоявшего из серой супеси, достигала 0,35 м. Здесь встречены небольшие фрагменты лепной керамики--и отдельные обломки костей животных.
Как представляется сейчас, славянское поселение занимало лишь часть мыса. Культурный слой поселения, по-видимому, в значительной степени разрушен при сооружении курганов Лысогорского могильника. Примерные размеры поселения могут быть ограничены площадью 40 х 150м.
Могильник относится к памятникам боршевского типа и датируется последними веками I тыс. н.э. Памятник находится на государственной охране. В распоряжении исследователей до недавнего времени имелся глазомерный план могильника, на котором было отмечено около 200 курганов. Инструментальный план могильника снят в основном в 1995 г. В 1996 г, этот план доработан, а в самом могильнике вскрывается одна курганная насыпь и предприняты шаги, направленные на предотвращение разграбления отдельных курганов.
Могильник известен с конца XIX в. Первые раскопки курганов проводил секретарь Воронежского губернского статистического комитета Л.Б. Вейнберг. Под рук. А.И. Мартиновича в начале XX в. статистическим комитетом и Воронежской ученой архивной комиссией были раскопаны 11 насыпей. Три кургана в могильнике вскрываются в 1924 г. сотрудником Воронежского областного краеведческого музея Д.Д. Леоновым.
В 1928 г. один курган исследован экспедицией ГАИМК под рук. Г.Ш. Ефименко. П.П. Ефименко и П.Н. Третьяков отметили, что сильная облесенность территории могильника не только препятствует съемке плана, но и затрудняет оценку количества курганов. Местонахождение всех указанных курганов сейчас не фиксируется. Позднее на территории могильника сотрудником Воронежского музея Н.В.Валукинским была выявлена могильная яма с остатками славянского трупосожжения.
С 1960-х гг. исследования памятника ведет экспедиция Воронежского университета, которой до проводимых по данной теме работ было раскопано 29 курганов. В 1965, 1967 гг. работы велись под руководством А.Н. Москаленко. Но основные работы здесь осуществлены в 1973, 1978-1980, 1985 гг. под рук. A.З. Винникова. Полученные материалы опубликованы .
На инструментальном плане могильника занесено 237 курганов (рис.11). На этом плане сложно выделить курганы, исследовавшиеся в конце XIX - первой четверти текущего столетия. Общее же число курганов в могильнике было значительно большим. Показательно, что курганные насыпи, концентрируясь на территории, примыкающей к реке, спускаются по пологому склону мыса .почти до его основания. На площади могильника улавливается свободная от насыпей площадка, разделенная ровиком, происхождение которого неясно.
Могильник расположен на поросшем лесом правобережном мысу ("Лысая гора"), высота которого над уровнем водохранилища превышает 50 м. Занимает территорию, максимальные размеры которой 160 х 550 м (рис. 11).
Большинство насыпей имеют диаметр 6-8 м, высоту 0,8-1,5 м. Следует оговориться, что из-за расположения многих курганов на склоне их высота с разных сторон разная. Возле некоторых курганов прослеживаются следы ровиков. Насыпи состоят из супеси (материк -песок). Под ними содержатся остатки трупосожжений, деревянные погребальные конструкции, керамические сосуды.
Особо подчеркнем, что ряд курганов отличается более крупными размерами (курганы 76, 85, 94 и некоторые другие). Их диаметр достигает 13 м, а высота превышает 2 м. Причем ни один из больших курганов не изучался раскопками.
Своими размерами выделяется один из разрушенных курганов (N 233) в северной части могильника (диаметр 17 м, высота более 2 м). Не исключено, что он относится к более раннему времени по отношению к насыпям, возведенным в последние века I тыс. н.э.
В ходе выполнения темы в 1995 г. совместно со специалистами-почвоведами во главе с Б.П. Ахтырцевым и другими исследователями проведены работы на насыпи исследовавшегося в 1985 г. кургана 193/26 (зачистка почвенного разреза с отбором образцов для лабораторного анализа).
В 1996 г. под рук. М.В. Цыбина раскопан курган 134/30. Он расположен в центральной части могильника, ближе к его западному краю. Диаметр кургана 6,25 м, высота 1,07 м. Ровики в виде овальных углублений прослежены с северо-восточной и юго-восточной сторон насыпи. При раскопках изучалась и примыкающая к кургану площадь (рис. 12, 1). Часть северной полы кургана заросла крупными деревьями и оказалась недоступна для раскопок.
Насыпь кургана состоит из супеси и суглинка. В ней встречены отдельные фрагменты лепной славянской керамики и кость животного. Выделяется слой погребенной почвы (серая супесь) толщиной до 0,4 м.
В восточной части кургана на слое погребенной почвы выявлена деревянная погребальная конструкция (рис.12, 2). Она представляла собой деревянный помост размерами 0,39 х 1,49 м. В западной части фиксировались остатки плахи размерами 0,36 х 0,43 м при толщине 2-3 см. В восточной части - две плахи-доски, примыкавшие друг к другу. Южная имеет размеры 0,17 х 0,27 м, толщину 4-5 см, северная - 0,2 х 0,34 м, толщину 4,5 см. В центральной части помоста плахи не сохранились. По периметру помоста уложены деревянные бруски. С южной стороны брусок имел длину 1,48 м и прямоугольное сечение размерами 3,5-4 х 4см. С западной стороны брусок имел длину 0,34 м, прямоугольное сечение размерами 5-5,5 х 6 см. С северной стороны брусок сохранился частично, он имел прямоугольное сечение 3-4 х 5см. С восточной стороны брусок отсутствовал. В целом общие размеры конструкции 0,47 х 1,55 м.
Деревянная конструкция сгорела. Причем под помостом следы прокала отсутствуют, в то время как над ним слой почвы прокален до 10 см. В западной части толщина прокала почвы составляет 4-5 см, а в восточной - 8-10 см. В северной части фиксируется линия прокала почвы. Она начиналась с отметки - 61 см, в то время как верхняя поверхность северного бруса имеет нивелировочную отметку -72 -78 см. Надо думать, что зажженный помост был засыпан землей. В восточной части помоста лежал сильно деформированный от воздействия температуры горшок, в котором находились кальцинированные кости (рис. 12, 3). Высота горшка 23 см, диаметр верха 16 см. По краю венчика он орнаментирован пальцевыми защипами. Отдельные кальцинированные кости найдены на помосте вне горшка.
В восточной части кургана зафиксированы плохо сохранившиеся остатки столбовой оградки. Это нижние части шести вкопанных в почву столбиков диаметром до 10 см. Расстояние между столбиками до 0,3 м. Они сохранились на высоту до 10 см. Линия столбиков находилась к югу от восточного края деревянной конструкции. К северу от восточного края деревянной конструкции зафиксированы остатки трех плашек, причем ближняя к погребальной конструкции находилась в вертикальном положении.
Сохранность памятника следует оценить как неудовлетворительную. На примыкающей к курганам территории имеется множество перекопов как военного времени, так и современных. Перекопами, в том числе и грабительскими шурфами нарушена значительная часть курганных насыпей. Продолжается разрушение части курганов береговым обнажением. Подчеркнем, что памятник находится на государственной охране. Рекомендуемая охранная зона охватывает территорию размерами 240 x 560 м.
Курганный могильник впервые исследовался в 1928 г. экспедицией ГАИМК под ру П.П.Ефименко. Тогда было раскопано два кургана в западной части могильника. Отмети что в могильнике в те годы насчитывалось 25 насыпей. План могильника не снимался, описании памятника отмечено лишь, что курганы располагались двумя неправильными рядами. В 1982 г. один курган был изучен отрядом экспедиции ВГУ под рук. A.3. Винникова. В соответствующей публикации отмечалось, что в могильнике к 1982 г. осталось 6 насыпей .
В ходе выполнения темы в 1995 г. было осуществлено обследование современного состояния могильника и снят инструментальный план памятника, в результате чего внесены существенные коррективы в представления о степени его сохранности. А в 1996 г, под рук. М.В. Цыбина в могильнике вскрыта еще одна насыпь.
Могильник расположен на склоне правобережной террасы на территории, непосредственно примыкающей к санаторию им. М.Горького (рис. 9). В ходе строительных работ недавнего времени могильник оказался в значительной степени разрушенным.
Судя по публикациям, насыпи в своем большинстве имели диаметр 11 м, высоту около 1,5 м, были окружены ровиками. Под ними содержались остатки трупосожжений в виде скопления кальцинированных костей, угля и золы, а также керамические сосуды.
В результате работ последних лет установлено, что в могильнике насчитывается 18 насыпей. Хорошо сохранилось семь насыпей, имеющих типичные для славянских курганов размеры (на плане - курганы 2-8). Что касается кургана 1, то он раскопан в 1982 г. Диаметр этих курганов 8-10 м, высота - около 1,5 м. Еще четыре насыпи подобных размеров (курганы 15-18) находятся около забора, ограждающего территорию санатория. Они в разной степени разрушены.
Кроме того на территории могильника фиксируется наличие шести курганных насыпей, отличающихся меньшими размерами (NN 9- 14). Их диаметр 6-8 м, высота - до 0,3 м. Ровики вокруг этих насыпей отсутствуют. Не исключено, что эти курганы могут относиться к сарматскому времени. Но раскопок такого рода насыпей не производилось.
Исследованный в 1996 г. курган 3/2 имел диаметр 8 м, высоту - 0,95м. В центре кургана - перекоп диаметром 1,3 м, глубиной 0, 35м. С северной, северо-западной и западной сторон кургана имеется ровик.
Курган исследован с оставлением двух бровок по линиям Ю-С и 3-В (рис. 10,7). Кроме того, траншеей шириной 1м исследован и ровик. Насыпь кургана сложена из супеси. В ней на разных глубинах встречены единичные обломки сосудов: венчик от горшка воронежской культуры эпохи бронзы (рис. 10,3), фрагмент острореберного сосуда срубной культуры (рис. 10,2); два венчика от лепных горшков раннего железного века ( рис. 10, 4J); венчик от славянского горшка конца 1 тыс.н.э. (рис. 10,6); более двадцати неорнаментированных фрагментов от лепных горшков раннего железного века и конца 1 тыс. н.э. Наличие в насыпи кургана фрагментов керамики эпохи бронзы и раннего железного века позволяет говорить о существовании на месте могильника поселений предшествующих эпох.
Уровень погребенной почвы под насыпью определяется только по местоположению погребения. Оно зафиксировано на глубине - 0,46 м от нулевой точки в 1 м к югу от центра кургана. Кальцинированные кости находились на участке диаметром 0,4м. Толщина слоя почвы, содержавшего кальцинированные кости, - 5 qm. В районе скопления костей углей и золы нет. Отдельные кальцинированные кости встречались и на других участках в площади кургана.
Под центром насыпи при зачистке материка выявлено пятно ямы. При его зачистке найден мелкий фрагмент черепа и фрагмент стенки сосуда эпохи средней бронзы. Диаметр ямы 1,3 м, глубина в материке 0,9 м. Заполнение однородное - серая супесь. В заполнении ямы на разной глубине встречены кальцинированные кости, угольки и невыразительный обломок стенки сосуда. Не исключена связь ямы с курганом.
Изучение ровика дало следующие результаты. С северной стороны от насыпи его ширина составляет - 1,3 м, глубина в материке - 0,25 м. Заполнение - темная, слоистая супесь. В заполнении встречены фрагменты керамики конца 1 тыс. н.э., угольки, остатки сгоревшей плашки. С западной стороны насыпи ровик имел ширину 2,2 м, глубина в материке до 0,5м. Заполнение - супесь. Здесь встречены отдельные фрагменты лепной керамики.
Предложено выделить охранную зону размером 150 х 230 м, в пределах которой должны быть запрещены любые строительные работы (см. рис. 1). Учитывая тот факт, что часть курганов могильника оказалась уничтоженной в недавнее время при возведении корпусов санатория им. М. Горького, необходимо заключение соответствующего охранного обязательства с администрацией санатория.
Памятник ранее не был известен, открыт в 1995 г. Тогда же здесь были проведен съемка инструментального плана, сбор подъемного материала и обследованы обнажени слоя.
Поселение расположено также на территории санатория им. М. Горького в 0,18 кг к северо-западу от Кузнецовского городища. Оно занимает мысовидный участок надпей менной террасы правого берега р.Воронеж, возвышающийся над уровнем воды в водохра нилище на 8-13 м (см. рис.2). Примерные размеры поселения 95 х 115 м (определены по распространению подъемного материала и особенностям рельефа местности). Подъемны материал включает один венчик и стенки лепных сосудов раннего железного века.
Культурный слой поселения в значительной степени разрушен в результате строительных работ. Здесь размещаются три корпуса санатория, проложены подземные коммуникации, разбиты клумбы, имеются асфальтовые дорожки. С целью предотвращения окончительного разрушения памятника рекомендуется выделение охранной зоны 110 х 120 м (см. рис 1), в пределах которой должна быть ограничена хозяйственная деятельность.
К настоящему времени на южном участке известно 15 памятников археологии (рис.1)
Городище впервые обследовалось в конце XIX в. Е.Л.Марковым и Л.Б.Вейнбергом и названо ими "Казарским". Тогда же Е.Л.Марковым был выполнен рисунок общего вида памятника. В 1901 г, городище обследовал С.Е. Зверев в связи со случайным обнаружением здесь остатков погребения.
Раскопки памятника проводились экспедицией ГАИМК под руководством П.П.Ефименко в 1928 г. Тогда в двух раскопах (65 кв.м и 70 кв.м) исследованы пять полуземляночных жилищ и кузница. Примерное местоположение этих раскопов дается на вновь выполненном плане городища (рис.2).
В 1932-1934 гг., во время строительства корпусов дома отдыха им. М. Горького, сотрудниками Воронежского областного краеведческого музея И.Д. Смирновым, Н.В. Валукинским, Д.Д. Леоновым, Т.М. Олейниковым на участке площадью около 1500 кв.м были полностью исследованы 12 полуземляночных построек жилого и хозяйственного назначения, а также доисследованы еще 18 разрушенных строительными работами построек. Материалы частично опубликованы. Н.В. Валукинским в 1940 г. проведен также осмотр слоя и сбор подъемного материала в строительной канаве.
Следует иметь в виду, что охранные раскопки 1930-х гг. не занесены на приводимый в данном издании общий план памятника, поскольку известно лишь, что последние проводились в районе раскопов 1928 г., где тогда возводились корпуса дома отдыха. Материалы, полученные в довоенное время и хранившиеся в Воронежском областном краеведческом музее, оказались утрачеными во время Великой Отечественной войны, что конечно же затрудняет культурно-историческую атрибуцию памятника.
В последующее время городище специально обследовалось в 1962 г. экспедицией ВГУ. Между тем, проводившимися здесь в послевоенное время строительными работами памятник в значительной степени был разрушен. Вместо старых корпусов дома отдыха возводятся новые здания санатория, сооружена асфальтовая дорога, проводятся другие земляные работы. Оказались почти полностью срытыми укрепления городища. На самой же площадке городища имеются многочисленные перекопы, скопления строительного и бытового мусора.
И не удивительно, что на момент проведения работ 1995 г, бытовало представление, что памятник в значительной степени уничтожен. Поэтому вопрос о постановке его на охрану не ставился.
Городище находится на территории санатория им.М.Горького (северная окраина г.Воронежа). Расположено на останце правого берега, высотой около 25 м. Площадка городища имеет размеры 80-85 х 320-325 м. По данным П.П. Ефименко и П.Н. Третьякова, укрепления состояли из двух валов. Первый из них проходил по краю площадки городища в его восточной и юго-восточной части. Второй, наружный вал, расположенный параллельно первому, проходил на половине высоты южного склона. Упоминается и о наличии следов сильно заплывших рвов со стороны въезда на городище в его восточной части.
Городище находится на территории санатория им.М.Горького (северная окраина г.Воронежа). Расположено на останце правого берега, высотой около 25 м. Площадка городища имеет размеры 80-85 х 320-325 м. По данным П.П. Ефименко и П.Н. Третьякова, укрепления состояли из двух валов. Первый из них проходил по краю площадки городища в его восточной и юго-восточной части. Второй, наружный вал, расположенный параллельно первому, проходил на половине высоты южного склона. Упоминается и о наличии следов сильно заплывших рвов со стороны въезда на городище в его восточной части.
Осуществленное в 1994 г. обследование городища позволило установить, что вопреки сложившейся точке зрения о полной утрате оборонительных сооружений они частично сохранились. В первую очередь это относится к внутреннему валу, который прослеживается на протяжении почти 100 м в юго-восточной части городища. Его ширина местами достигает 10 м, высота - 1 м. Каких-либо следов второго вала не зафиксировано. Но в том месте, где он помещен на плане П.П. Ефименко и П.Н. Третьякова, вдоль всего южного склона городища фиксируется искусственная подрезка. А по образовавшейся в результате этой операции еще в древности площадке ныне проложена асфальтированная дорожка. Ширина площадки - 4-6 м, что, кстати сказать, не соответствует описанию П.П. Ефименко и П.Н. Третьякова. И лишь местами она достигает 8-10 м. Скорее всего, внешний (своего рода нижний) вал, если он вообще существовал, имел более скромные размеры, чем об этом писалось ранее.
В рамках разработки темы основные работы в 1995 г. включали выполнение инструментального плана городища и проведение охранных работ с целью оценки состояния культурного слоя на отдельных участках памятника и определения возможностей его дальнейшего охранного изучения.
Для раскопа выбран участок на северо-западном краю городища, примыкающий к обнажению берега (раскоп 1 1995 г., начальник раскопа М.В. Цыбин). Планировавшаяся к вскрытию площадь раскопа - около 100 кв.м. Первоначально были исследованы квадраты 1-6. В северо-западном углу квадрата 1 выявлено пятно котлована, для изучения которого прирезаны квадраты 7-12. В результате во вскрытую площадь, составившую 48 кв.м, попала большая часть полуземляночной постройки древнерусского времени (рис.З), Поскольку данное жилище имело хорошую сохранность, было принято решение не расширять раскоп в сторону обнажения, как это планировалось первоначально. Еыло признано целесообразным доисследование постройки осуществить позднее, параллельно с ее возможной музеефикацией. Поэтому особое внимание было обращено на обеспечение консервации раскопанной части постройки, включая полную засыпку раскопа и укрепление обнажения берега в районе невскрытых квадратов раскопа, где осталась часть котлована.
Вскрытие слоя в площади раскопа производилось по квадратам размерами 2x2 м и пластам толщиной 0,2 м, с зачисткой основания каждого пласта. Фиксация остатков строительных комплексов и индивидуальных находок проводилась от единой "0" точки, за которую был принят уровень дневной поверхности в северо-восточном углу квадрата 5.
Культурный слой в площади раскопа имел мощность 0,3 - 0,6 м. Верхняя часть слоя оказалась нарушенной позднейшей хозяйственной деятельностью. Толщина переотложенного слоя достигала 0,3 м. В южной части раскопа фиксировались остатки фундамента постройки XIX-начала XX вв. Фундамент представлял собой вырытую в почвенном и материковом слое канаву, фиксировавшуюся примерно с глубины 0,2 м в квадратах 2, 4, 6, 12. Ширина канавы достигала 0,6 м, глубина ее в материке - до 0,6 м. Канава заполнена глиной зеленоватого цвета. В верхней части встречались обломки красных кирпичей.
Под переотложенным слоем мощностью до 0,2 -0,3 м залегал слой темно-серого суглинка, имевший толщину до 0,4 м, характеризующийся более светлым цветом и включениями коричневой глины в предматериковой части.
В слое содержались материалы эпохи бронзы, раннего железного века и древнерусского времени (последние века I тыс. н.э.).
Керамика эпохи бронзы представлена фрагментами венчиков от семи сосудов воронежской культуры эпохи средней бронзы, из которых три встречены в первом и четыре - во втором штыке слоя. Это фрагменты венчиков горшковидных сосудов, орнаментированные вдавлениями (рис.4, 1-4), а также обломки стенок с прочерченным орнаментом (рис.4, 5) и пальцевыми защипами.

Фрагменты керамики раннего железного века в основном принадлежат лепным сосудам скифского времени. Всего найдено 72 венчика горшков (рис.5, 7-3, 6-7, 10-11) и четыре венчика мисок (рис.5, 4). Кроме того из слоя происходят два венчика кувшинов (рис.5, 8) и по одному венчику ритуального сосудика (рис.5, 9% чашки, толстостенного сосуда типа пифоса и фрагмент миниатюрного сосудика, а также многочисленные днища лепных сосудов и две стенки амфоры.
Венчики горшков имеют заглаженную поверхность серого или коричневого цвета. Сосуды орнаментированы защипами по венчику, иногда в сочетании со сквозными проколами. Особо следует отметить находку венчика горшка с "рогожной" поверхностью (рис.5,7). Показательно, что "рогожная" или "сетчатая" поверхность имелась еще на двадцати стенках.
В керамической серии раннего железного века оказались и отдельные фрагменты, датирующиеся первыми веками н.э. (2 венчика и фрагмент ручки лепных сосудов, 7 стенок сероглиняных сосудов сарматского типа).
Керамика боршевского типа последних веков I тыс.н.э. представлена фрагментами и развалами горшков. В слое встречено 23 фрагмента венчиков от горшков. Это лепные горшки серо-коричневого цвета с примесью шамота и дресвы (рис. 6). Они орнаментированы пальцевыми защипами и насечками по краю венчика, лишь один фрагмент имеет "веревочную" орнаментацию. Особо отметим, что в квадратах 2 и 4 во 2-м штыке встречены развалы трех горшков (рис.6, 1-3). Несколькими фрагментами представлен развал чаши (рис. 6, 4).
Из слоя в площади раскопа происходит серия индивидуальных находок, включающая изделия из цветных металлов, железа, стекла, глины и камня (рис.7).
Во втором штыке кв. 1 и 12 найдены браслеты, изготовленные из округлой в сечении бронзовой проволоки (рис.7, 7,2). По-видимому, эти два предмета относятся к раннему железному веку. К этому же времени относятся бронзовый трехлопастной втульчатый наконечник стрелы, датирующийся V-IV вв. до н.э. (кв. 5, штык 1- рис. 7,3) и бусина из глухого синего стекла с глазками белого, желтого и голубого цветов (рис. 1,4)
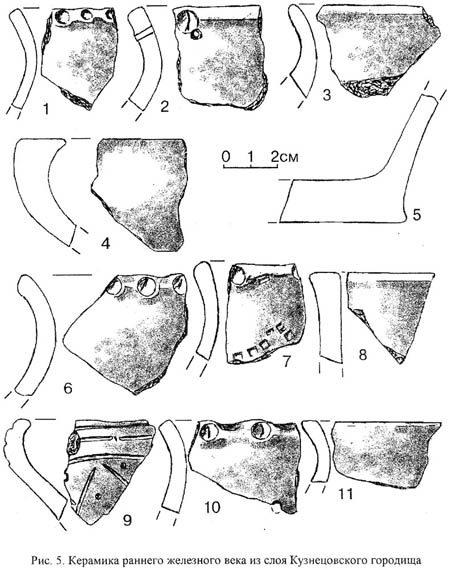
Славянский железный нож происходит из второго штыка кв. 10 (рис. 7,5). Два железных гвоздя найдены в первом штыке кв. 5 (рис. 7, 6,7). Свинцовое грузило славянского времени встречено в кв. 7, штык 1 (рис.7, 8). Многочисленна серия глиняных пряслиц раннего железного века (5 экземпляров)- рис. 7, 11-15. Найдены также миниатюрный сосудик раннего железного века (рис. 7, 9), пряслице из стенки средневекового гончарного красноглиняного сосуда (рис.7,/0) и обломок каменного орудия (рис.7,16).
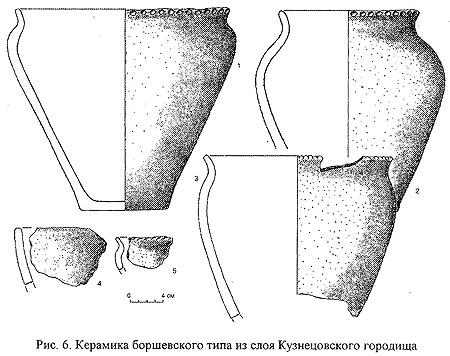
Как уже указывалось, в квадратах 1,7,8,10,1 раскопа выявлена часть котлована полуземляночной постройки (см. рис.3). Постройка исследована неполностью. Часть ее уходит под северный борт раскопа, а западный угол - под западный борт раскопа.
Судя по исследованной части, постройка имела подквадратную форму с длиной сторон около 4 м. Глубина котлована в материке до 0,8 м. Стратиграфия наслоений в районе котлована следующая (см, рис.3, профиль I), Над заполнением котлована под дерновой прослойкой толщиной до 5 см залегала прослойка темно-серой почвы, перемешанной с глиной, толщиной около 0,1 ми прослойка серой почвы мощностью около 0,2 м. Ниже залегает прослойка темно-серой рыхлой почвы толщиной около 0,25 м (собственно первый слой заполнения котлована), темно-серая плотная прослойка (0,2 м) и такой же слой серой почвы (также заполнение котлована). Примечательно, что последняя прослойка отделена от нижележащей тонкой прослойкой из золы, угля, песка. Ниже ее следует серый глинистый слой мощностью 0,26 м, а еще ниже выявлена темная прослойка, фиксирующая пол постройки. Ее мощность - около 5 см. У материковых стенок котлована выделяется слой глинистого заполнения котлована. В восточной части описываемого профиля видна углисто-золистая прослойка от деревянной облицовки стены котлована. Она находится в 0,3-0,5 м от материковой стенки котлована. В той же восточной части котлована, у материкового основания четко выявляется золистый слой и камни от печи.
Вдоль юго-восточной стены котлована фиксировались остатки деревянной облицовки стены постройки. Один участок остатков облицовки отмечен на глубине -108 -130 см. Изучение этих остатков показало, что они представляли собой лежащую горизонтально обожженную деревянную плашку шириной 7 см, толщиной 3-4 см. Ниже ее залегал слой прокаленной земли мощностью 6 - 7 см. Далее следовала еще одна обожженная плашка примерно тех же размеров, что и вышележащая. Ниже этой плашки также залегал слой обожженной почвы толщиной 0,1 м, а еще ниже - до материкового основания - располагался слой глинистого заполнения. Аналогичный участок деревянной облицовки стены выявлен у южного угла постройки.
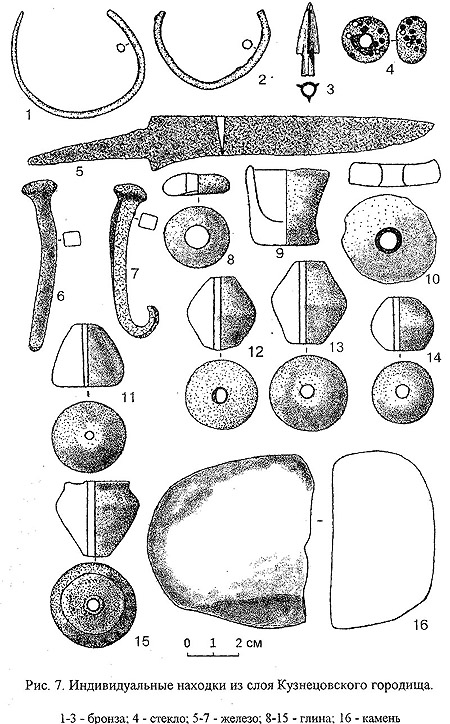
У восточного угла котлована зафиксированы остатки сложенной из ракушечника печи-каменки. Среди развала камней выявлены угли и зола.
В кв. 10 на глубине - 1,48 м зафиксированы три крупных куска железосодержащей породы. На дне котлована найден кусок шлака. В квадрате 7 выявлена нижняя часть горшка боршевского типа, а рядом с ним - камень, возможно, использовавшийся в хозяйственных целях. Не исключено, что данные свидетельства связаны с железоделательным производством.
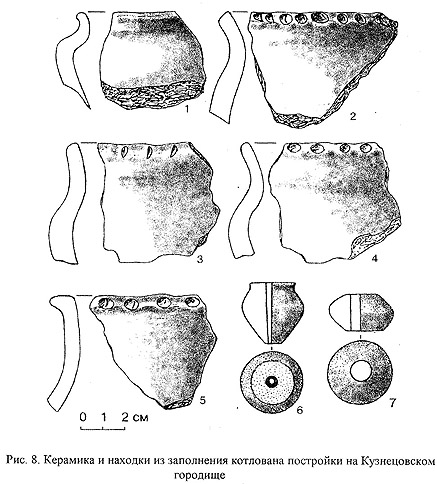
Заполнение котлована, как уже отмечалось, фиксировалось с 3-го штыка слоя (1-й штык заполнения котлована). На этой глубине в заполнении встречены три фрагмента венчиков от лепных горшков боршевского типа. Во 2-м штыке заполнения отмечено наличие 11 фрагментов венчиков боршевских сосудов (рис. 8, 1-4\ в 3-м штыке - 5 фрагментов венчиков от такого рода сосудов. Кроме того из заполнения котлована происходят фрагменты сковороды и чаши, а также стенки гончарного сосуда салтово-маяцкой культуры. В 3-м штыке встречены обломки противня, видимо, связанного с печью. Среди развала печи найдено славянское глиняное пряслице (рис.8, 7).
В заполнении котлована постройки встречены материалы и более раннего времени, попавшие сюда из культурного слоя. Это фрагменты сосудов воронежской культуры эпохи бронзы, скифского времени (рис. 8, 5), в том числе стенки амфор и фрагменты с "рогожной' и "сетчатой" поверхностью, обломки сероглиняных сосудов сарматского типа. Из нижней части заполнения котлована происходит и глиняное пряслице скифского времени (рис. 8,6).
В целом же, проведенные в 1995 г, на городище работы не только уточнили его культурно-историческую оценку, но и продемонстрировали перспективность его дальнейшего изучения. Сформировалось и убеждение в необходимости постановки памятника ш государственную охрану. Рекомендуемая охранная зона (140 х 380 м) включает как площадку городища, так и склоны мыса (см. рис. 1). В пределах охранной зоны безусловно должнь: быть запрещены строительные работы и иная хозяйственная деятельность. Необходимо заключение охранного обязательства с администрацией санатория им.М.Горького, на территории которого находится данный памятник.
Как уже указывалось, территория микрорегиона включает участок правого высокого берега р. Воронеж от северной окраины современного Воронежа до окружной автодороги общей протяженностью около 11 км. Здесь, прежде всего, находится комплекс археологических памятников древнерусского времени последних веков I тыс. н.э. При проведении полевых исследований последних лет основное внимание уделено изучению именно данного комплекса памятников, сопоставляемых с Вантитом.
Отдельные из них многослойные. Кроме свидетельств древнерусского времени они содержат материалы эпохи бронзы и раннего железного века.
Есть и отдельные памятники, относящиеся к эпохе бронзы и раннему железному веку. Краткие сведения о них также приводятся в данном издании. Немаловажно иметь в виду и то обстоятельство, что указанная территория представляет собой памятник природы, известный в географической литературе под названием Воронежская нагорная дубрава.
Территория микрорегиона условно разделена на два участка - южный и северный. Южный участок - территория от санатория им. Горького до Барковой горы. Северный - территория вверх по течению р. Воронеж, севернее Барковой горы. Такое деление в значительной степени обусловлено топографией, поскольку южный участок отделен от северного крупным древним логом. Площадь южного участка в свою очередь рассечена меньшими по величине балками, разделяющего участок на три "горы": Лысую, Драную и Баркову. Вся нагорная часть участка поросла густым лиственным лесом с развитым подлеском. Это обстоятельство в известной степени защищает памятники от усиливающегося антропогенного воздействия, но не способно предотвратить их разрушение и, особенно, разграбление.
Почти тридцать лет назад опубликована статья Б.А. Рыбакова, в которой была предпринята попытка восстановить маршрут функционировавшего в период раннего средневековья сухопутного пути сообщения Киев - Булгар и идентифицировать пункты остановок на данном пути с конкретными археологическими объектами. По высказанному им тогда заключению этот путь пролегал и по территории лесостепного Подонья, где выявлен и изучен массив памятников боршевского типа последних веков I тыс. н. э. - самого начала текущего тысячелетия. В связи с изложенным подходом открывалась возможность поместить в системе этого пути и город Вантит (Ва.иТ, Вабнит), который, судя по данным восточных источников (Ибн-Русте, Гардизи, "Худут ал-Алем"), некогда находился в начале пределов славянского мира и предположительно идентифицировался Б.А. Рыбаковым с городищем у Михайловского кордона, невдалеке от северной границы современного Воронежа, где, кстати сказать, известен целый сгусток памятников этого времени, о которых речь пойдет в данном издании.
Историю полевого изучения и осмысления этих памятников следует начать с конца прошлого - начала нынешнего столетия (работы краеведов Л.Б.Вейнберга, ЕЛ. Маркова и др.). Первое, во многом эмоциональное, описание этих мест более ста лет назад дал Л.Б. Вейнберг, Для изложенного им подхода свойственно целостное, затем надолго утраченное восприятие данной микротерритории как единого целого. Речь идет об участке правого берега реки Воронеж от района Лысой горы до рубежа Чертовицкого, что примерно в 8 км ниже по течению реки Воронеж от одноименного села. А в появившейся тогда же статье Е.Л. Маркова речь шла об отдельных памятниках данной микротерритории. Им были приведены многочисленные топонимы в обозначении отдельных городищ ("Козарское" (Хазарское) городище (городища), "Черново городище" и другие), что совершенно не учитывается в принятых сегодня названиях городищ в работах современных исследователей. Кстати сказать, именно он сообщает, что "все вместе Козарские городища Белой горы носят в народе название "Чернова гора".
Конечно же, уровень полевых исследований воронежских любителей древностей тех лет явно невысок. Но внимательное ознакомление с их мыслями и наблюдениями помогает ощутить колорит восприятия данного микрорайона в те годы, когда последствия массированного антропогенного прессинга на природную среду здесь были куда менее масштабными, чем сейчас.
Начало же серьезного осмысления данных памятников с позиции возможностей археологии связано с работами экспедиции ГАИМК 1928г. под руководством П.Л. Ефименко, когда были осуществлены небольшие по масштабам полевые исследования отдельных памятников древнерусского времени в нижнем течении р. Воронеж. Но результаты этих работ были опубликованы лишь двадцать лет спустя. Последние были интерпретированы как славянские, относящиеся к последним векам I тыс. н.э. Замечу, что в то время довлело представление, что речь идет о глухой окраине на юго-востоке славянских земель.
Исследование памятников рассматриваемого времени в нижнем течении реки Воронеж возобновляется со второй половины 60-х гг. экспедицией Воронежского университета под рук. А.Н Москаленко, затем А.З. Винникова. Результаты этих работ опубликованы. Но тогда изучалась не микротерритория в целом, а лишь отдельные памятники.
Поворот в осмыслении интересующих памятников все-таки связан с именем Б.А. Рыбакова. Имеется в виду предложенная им оценка раннесредневекового сухопутного пути сообщения Киев - Булгар. Именно стремлением сопоставить намеченные Б.А. Рыбаковым пункты остановок на этом пути с конкретными археологическими объектами объясняется проведение в 1989 и 1990 гг. Институтом археологии АН УССР и Институтом языка, литературы и истории Казанского филиала АН СССР (рук. А.П. Моця и А.Х. Халиков) совместной экспедиции по предполагаемому маршруту. В 1990 г. в Воронежском университете проведена научная конференция по археологическому изучению микрорайонов, где оценке сухопутного пути Киев - Булгар было уделено первостепенное внимание. Данный вопрос подробно рассмотрен и на состоявшейся в следующем году конференции в Казани. Высказанные на этих конференциях суждения и подходы в оценке местоположения Вантита оказались далеко не тождественными.
Собственно в те же годы сформировался и отстаиваемый мною подход, согласно которому с Вантитом связан целый комплекс памятников древнерусского времени у северной окраины современного Воронежа от санатория им. Горького до окружной автодороги. На формирование данного подхода тогда большое влияние оказали посещения этих памятников ведущими российскими учеными Т.И. Алексеевой и В.В. Седовым и ведущими украинскими археологами П.П. Толочко и А.Л. Моцей. Но более обстоятельная аргументация названного подхода во многом зависела от целенаправленного изучения данного комплекса памятников как единого целого.
С этой целью в 1993-1994 гг. в рамках выполнения кафедрой археологии Воронежского университета научной темы "Памятники археологии Центрального Черноземья в системе историко-культурного наследия России" проводится сплошное обследование микрорайона, в результате чего удалось выявить наличие следов рассматриваемого времени и на промежуточной между уже известными городищами территории, что способствовало формированию представления о его целостности.
В 1995 г. работы проводятся уже в рамках реализации одной из тем по федеральной программе "Археологическое наследие народов Российской федерации". Основное внимание сосредотачивается на инструментальной съемке важнейших объектов и продолжении обследования территории не только вдоль берега реки, но и вглубь плато.
Из-за отсутствия финансирования названной программы в 1996 г, эти работы мы вынуждены были продолжать, опираясь в значительной степени на внутренние ресурсы университета.
Замечу также, что в 1993-1996 гг. сотрудниками кафедры осуществлены и ограниченные по масштабам раскопки отдельных из находящихся здесь памятников. Эти работы теперь уже подчинены реализации задачи охраны памятников и их будущей музеефикации (руководители раскопок ЮЛ. Матвеев, автор, Ю.Д. Разуваев, М.В. Цыбин).
В предлагаемом вниманию читателей издании публикуются основные результаты работ. 1993-1996 гг. по изучению территории микрорегиона на южном его участке (от санатория им. М. Горького до Барковой горы).
А.Д. Пряхин
Благодаря исследованиям археологов в древней истории Восточной Европы не так давно появилась новая страница - Лесостепная Скифия VII - начала III вв. до н. э. Как становится все более очевидным, она представляла сложное, динамично развивавшееся этно-политическое образование, возникшее в результате длительного взаимодействия пришлых ираноязычных номадов и автохтонного населения. В ее почти четырехвеко-вой истории выделяются два этапа:
- VII - VI вв. до н. э. - возникновение и расцвет первых лесостепных скотовод-ческо-земледельческих объединений в Правобережном и Левобережном Поднепровье и Побужье под эгидой военно-кочевой знати (С. А. Скорый). Их археологическим отражением являются многочисленные лесостепные поселения, в том числе, городища гигантских размеров, и большие курганые могильники с захоронениями аристократии и дружинников. Многие из них были совершены в погребальных сооружениях и сопровождались ярким инвентарем, тождественым «раннескифскому культурному комплексу». Парадоксальный факт наличия многочисленных курганных некрополей раннескифского облика в украинской лесостепи при их практически полном отсутствии в это время в причерноморской степи, на территории будущей Геродотовой Скифии получает весьма убедительное объяснение при признании существования Архаической Скифии именно на лесостепной территории. Скорее всего, городища и курганные некрополи являлись материальным выражением двух основных лесостепных укладов - оседло-земледельческого и полукочевого скотоводческого, которые с момента подчинения номадами отдельных лесостепных районов составляли тесно взаимосвязанные, во многом вынужденные для коренного населения социально-экономические системы. Со временем из них могли развиться политии во главе с «царями» меланхленов, гелонов, будинов и прочих народов, о которых писал Геродот.
- V - IV вв. до н. э. - время сосуществования «двух Скифий»: Степной и Лесостепной. Последняя значительно расширяет свою территорию на восток и включает в себя Среднее и часть Верхнего Подонья. Для времени расцвета Геродотовой Скифии мы имеем археологические данные о присутствии скифов лишь в южных пограничных со степью районах и Приднепровской террасовой лесостепи. Судя по сохранению многих, в том числе погребальных традиций остальная лесостепь продолжала оставаться в руках потомков «ранних скифов», давно смешавшихся с местным автохтонным населением. В результате распада некогда единой культуры ираноязычных номадов - носителей «раннескифского комплекса» и их адаптации к местным региональным условиям к середине I тыс. до н. э. сложилась та свита локальных скифообразных групп памятников, за которыми, скорее всего, скрываются имена народов, упомянутых «отцом истории» при описании северной стороны «Скифского квадрата».
Введенное в науку почти полвека назад понятие «Лесостепная Скифия» весьма точно отражает и географическую, и культурную специфику последней, а также прямую причастность ее населения к исторической Скифии и скифам, причем, с самого начала скифской эпохи на Юге Восточной Европы. Однако, как представляется, сводить всю историю народов восточноевропейской лесостепи к скифам, особенно в V-IV вв. до н.э. было бы неправомерно. К эпохе Геродота здесь уже сформировались местные этно-социальные организмы, в том числе, и такие которые «отец истории» уверенно определял как нескифские. Для выяснения их этнокультурной природы необходим конкретно-исторический подход по эпохам и регионам.
«ведь они не основывают ни городов,
ни укреплений, но все они,
будучи конными стрелками,
возят свои дома с собой,
получая пропитание не от плуга,
а от разведения домашнего скота;
жилища у них на повозках.
Как же им не быть непобедимыми... ?»
Геродот
«Пахарь дает славу культуре, город -славу цивилизации».
Борхес
Конец XX в. ознаменовался пробуждением новой волны интереса к фундаментальным проблемам исторического развития народов Степной и Лесостепной Евразии. Утрата жесткой марксистской методологии и глубокое разочарование в весьма однолинейной марксистской концепции истории заставила думающих ученых заняться поисками новых исследовательских парадигм в изучении древних обществ, которые раньше однозначно рассматривались как позднепервобытные. Много новых идей появилось в отечественной археологии и кочевниковедении, где все более заметную роль начинает играть цивилизационный подход к истории. В научной литературе последнего десятилетия можно найти предельно широкий спектр оценок уровня социо-культурного развития скотоводов эпохи бронзы и раннего железного века Степной Евразии вплоть до создания ими особой «скотоводческой цивилизации».
Пионером цивилизационного подхода к степным сообществам явился А.И. Мартынов. Еще в конце 80-х годов прошлого века он предложил интерпретировать «скифо-сибирское единство» евразийских культур VII - III вв. до н. э. как особую степную цивилизацию кочевников. Попутно им же была высказана идея о существовании государственности не только у европейских скифов и среднеазиатских саков, но и у скотоводов Алтая и даже тагарцев. Обе идеи А.И.Мартынова сразу не получили поддержки в скифо-сарматской археологии, хотя их обсуждению был посвящен день на II Семинаре «Античная цивилизация и варварский мир» (Новочеркасск, 1988) и специальное сове-щание в Отделе Скифо-Сарматской археологии Института археологии РАН .
Однако такой подход к скотоводческим обществам как к особой степной цивилизации вскоре пришелся по душе некоторым археологам, занимающимся проблематикой эпохи бронзы, особенно после открытия Аркаима. С рубежа 80 - 90-х годов XX в. одни стали утверждать о «протоцивилизации бронзового века» (как варианты «протогород-ская цивилизация» и «несостоявшаяся цивилизация») на Южном Урале, другие писали о «индоевропейской неурбанистической цивилизации эпохи палеометаллов», охватившей фактически всю степную зону , третьи более скромно о «цивилизационных процессах» в скотоводческих обществах Евразии и даже о «цивилизационном скачке» на стыке средней и поздней бронзы. Причем, судя по привлекаемым аргументам, часто речь идет не только о цивилизации в широком культурологическом смысле, но и о цивилизации как о вполне определенной стадии исторического развития в духе Моргана -Энгельса. И как результат, сейчас можно встретить высказывания о появлении не только отдельных признаков, но и самой ранней государственности у пастушеских племен степной и лесостепной Евразии уже в эпоху средней бронзы (1-ая пол. II тыс. до н.э.) или даже еще в энеолите (III тыс. до н.э.).
При всей методологической слабости и разнобое приведенных выше оценок в них проглядывает не просто очередной научный курьез, какими богата отечественная наука нашего времени, а стремление выработать оригинальную исследовательскую парадигму в условиях активно утверждающегося в отечественной науке «нового» цивилизаци-онного подхода. Но очень важно, чтобы она была адекватна изучаемому явлению. К сожалению, ни один из названных выше исследователей не дал сколь-нибудь внятной дефиниции понятия «цивилизация», которым он пользуется и которое, как известно, отличается аморфностью и многозначностью содержания. Предложенные же для описания «скотоводческой цивилизации» критерии, такие, как высокий уровень развития пастушеского хозяйства, выделение ремесел и т.п. или не вполне соответствуют феномену цивилизации в том его понимании, какое утвердилось в науке, или же описывают совсем иное историческое состояние общества, мало похожее на классическую цивилизацию. Мне представляется, что гносеологический потенциал вещественных источников и современные методы социоархеологии позволяют, если не решить проблему, то все же более надежно определить уровни исторического развития, достигнутые скотоводческими обществами эпохи бронзы и раннего железного века. Для ее разработки помимо общепринятой триады «наглядных» критериев цивилизации как определенной ступени развития общества и его культуры (появление городов, монументальной архи-тектуры, письменности) наиболее перспективными представляются следующие виды археологических объектов:
- остатки поселенческих структур;
- типы и размеры поселений;
- площадь жилищ;
- различия в размерах погребальных сооружений и в составе сопровождающего инвентаря;
- место престижных и рядовых погребений в структуре курганов и могильников.
Важно, что все они довольно полно представлены в культурах эпохи бронзы и раннего железного века степной и, особенно, лесостепной Евразии, что позволило провести сравнительный диахронный анализ оставивших их сообществ по одним и тем же параметрам. Ниже кратко излагаются его результаты.
Хорошо известно, что для переходной эпохи от первобытности к цивилизации и государственности характерно зарождение и развитие многоуровневой организации общества, что рано или поздно находило отражение в остаточных схемах расселения в виде появления иерархии поселений. Изучение степных и лесостепных систем расселения эпохи средней и поздней бронзы (абашевская и срубная культуры) показывает, что подавляющее большинство из них были приблизительно одинаковы по своей внутренней структуре и в сущности составляли один «административный» уровень. Сколь-нибудь заметных признаков развития иерархических поселенческих структур у обитателей южнорусских степей и лесостепей во II тыс. до н. э. пока не отмечено. Видимо, здесь еще не получили развития процессы институализации власти, оторванной от народа, имевшей свои постоянные резиденции. Появление разноуровневых поселенческих структур на Юге Восточной Европы археологически надежно фиксируется с наступлением железного века, когда в лесостепи, а затем и в степи возникает множество городищ. Наиболее крупные из них вместе с расположенными поблизости неукрепленными поселениями и курганными некрополями кочевнического облика образовывали локальные микрорайоны памятников, которые в социальном плане, скорее всего, соответствовали отдельным вождествам разного уровня.
С только что рассмотренным критерием тесно связан другой - размеры и типы поселений, которые содержат информацию о некоторых качественных характеристиках оставивших их сообществ. Еще со времен Г. Чайлда едва ли не самым популярным археологическим отличием городов от других типов поселений считаются такие их размеры, где могло проживать не менее 5 тыс. человек, хотя сам этот количественный критерий далеко не бесспорен. Если все же им воспользоваться, то мы не найдем, так сказать, «ранних городов» в эпоху бронзы. Даже поселения типа Ар кайма не дотягивают до этого показателя. Площадь же остальных поселений II тыс. до н.э. редко превышала 1 - 2 га, а число обитателей 100 - 150 человек. Их социальная топография была проста. По многочисленным эмпирическим наблюдениям этнологов, управление общинами с таким количеством членов не требовало какого-то особого надлокального уровня власти . Подавляющее большинство бытовых памятников степной и лесостепной бронзы демонстрируют слабо дифференциированные социальные, почти эгалитарные структуры, распространенные на очень большие территории. По основным социальным признакам они еще соответствуют так называемому сегментарному типу общества.
Во многом иная картина наблюдается в раннем железном веке, когда в восточноевропейской лесостепи сооружаются сотни хорошо укрепленных городищ, размеры некоторых из них многократно превышали минимальный количественный показатель Г.Чайлда. Уже сам факт повсеместного их распространения свидетельствует о весьма радикальных переменах в жизни общества. В Поднепровье и Побужье появляются городища-гиганты площадью в сотни гектар (Матронинское, Трахтемировское, Немиров-ское и др.), не говоря уж о знаменитом Вельском городище на Ворскле, где могло одновременно проживать до 40 - 50 тыс. человек. С V в. до н. э. большие городища сооружаются и в степи. Их отличает сложная социальная топография (Каменское городище на Нижнем Днепре, Елизаветовское городище на Нижнем Дону). Концентрация населения на таких поселениях квазигородского типа требовала принципиально новых властных структур, способных подвигнуть его к выполнению гигантских по объему работ. По-видимому, их отражением явились расположенные поблизости от крупных городищ аристократические могильники, содержащие курганы «царского» ранга типа «Старшой Могилы» в Посулье по соседству с огромным Басовским городищем, «Чертомлыка» на Нижнем Днепре недалеко от Каменского городища или «Пяти Братьев» на Нижнем Дону, входившего в структуру некрополя Елизаветовского городища. Гигантские размеры их насыпей, сложные погребальные сооружения и роскошный сопровождающий инвентарь, по ценности на несколько порядков превосходящий заупокойные приношения рядовым членам общества, служат наглядным показателем степени концентрации власти и богатств в руках скифских «царей» и их «номархов». Однако следует признать, что основная масса рядовых номадов, будь то скифы или сарматы, имела низовую социальную организацию, которую A.M. Хазанов весьма точно назвал стратифицированной сегментарной системой .
Степные и лесостепные общества II и I тыс. до н.э. существенно различаются по размерам жилых сооружений. По единодушному мнению исследователей, для культур эпохи бронзы более характерны жилища площадью от 50 - 70 до 200 - 300 кв.м. Они служили местами обитания большой патриархальной семьи. Иной тип жилищ мы находим на городищах и поселениях раннего железного века Юга Восточной Европы. Их обычные размеры чуть ли не на порядок меньше (от 10 до 30 кв.м.) указывают на тип малой патриархальной семьи, что находит подтверждение и в античной традиции. Если проанализировать этот критерий в обществах переходного типа от варварства к цивилизации, то почти повсеместно для этой эпохи мы увидим тенденцию к сокращению жилой площади рядовых жилищ до размеров, необходимых для проживания малой (нуклеарной) семьи. В этом смысле домостроительные традиции населения раннего железного века стоят ближе к ступени цивилизации, нежели таковые эпохи бронзы.
Проведенное автором сравнительное исследование показало существенные различия не только в размерах погребальных сооружений, но и в организации курганных некрополей в эпоху бронзы и раннем железном веке, когда впервые появляются большие могильники элиты, иногда насчитывающие десятки, а то и сотни насыпей. Несоизмеримыми оказались трудозатраты при возведении погребальных сооружений для захоронений «знати» II тыс. до н. э. и могил военной аристократии и «царей» I тыс. до н. э. В них отлагалась значительная часть прибавочного продукта, преобразованного в престижные вещи неутилитарного назначения и многочисленный античный импорт. Некрополи раннего железного века в степи и лесостепи убедительно свидетельствуют о появлении института наследования социального статуса, что надежно не просматривается на археологических материалах могильников эпохи бронзы, не исключая даже самые известные (Синташта, Потаповка, Филатовка).
Комплексный анализ массовых археологических индикаторов уровня социокультурного развития позволил выявить еще одно кардинальное различие в социальной организации пастушеских скотоводов эпохи бронзы и номадов раннего железного века, проявляющееся в характере разделения труда между подвижными скотоводами и оседлым земледельческо-пастушеским населением. В эпоху бронзы между ними еще не ощущалось сколь-нибудь существенной обособленности этнокультурного и социального плана. Видимо, тогда разделение труда осуществлялось внутри общины, проживавшей на одном поселении: одна ее часть жила оседло, другая, сопровождая стада, вела подвижный образ жизни . Иная ситуация сложилась на Юге Восточной Европы в раннем железном веке с появлением номадов. Специализированное кочевое хозяйство не могло обеспечить скотоводов всем необходимым и, прежде всего, продуктами земледелия и ремесла. Поэтому кочевники стремились подчинить себе оседлое, как правило, иноэтничное население, а затем насильственно включали его в свою социально-экономическую систему. На этой основе возник феномен ранней скифской государственности, где доминировали даннические и так называемые дистанционные(война, грабеж, вымогательство «подарков») формы эксплуатации воинственными кочевниками оседлоземледельческого населения не только в степи, но и в лесостепи. Привыкший выпасать свой скот кочевник легко становился, по выражению А.Тойнби, «пастырем» местного «человеческого стада». Возможно, наглядным археологическим свидетельством существования в раннем железном веке именно такого экзополитарного (то есть направленного «вовне») или ксенократического способа производства служат уже упоминавшиеся большие курганные могильники номадов (или бывших номадов) в лесостепи типа посульских или среднедонских, возникавшие по соседству с городищами, где проживало автохтонное оседлое земледельческо-скотоводческое население.
Отказ от изолированного, «статичного» рассмотрения обществ эпохи бронзы и раннего железного века на Юге Восточной Европы в узких хронологических рамках только «своей» эпохи позволил не только уточнить достигнутый ими уровень исторического развития, но и выявить весьма существенные структурные различия между ними. В социальном плане скотоводческие общества II тыс. до н. э. выглядят весьма гомогенными, особенно, в сравнении с более стратифицированными кочевническими образованиями раннего железного века. Может быть, эти различия отражают два разных пути развития скотоводческих обществ Евразии (соответственно "пасторализм" и "номадизм") или две стадии эволюции скотоводческого хозяйства с явными признаками формирования иерархических социальных, а затем раннегосударственных структур у номадов, начиная с I тыс. до н. э. В ряде случаев последние достигали размеров «крупномасштабных обществ», свойственных цивилизации, и имели весьма сложную социально-политическую организацию («кочевые империи»). Античные источники свидетельствуют о наличии у скифов, сарматов, алан, гуннов не только наследственной аристократии, но и государственности (др. греч. pomAsia, лат. regnum, кит. "го" и даже "син го" - букв, «кочевое государство») с правящими царскими династиями. Видимо, действительно, начиная со скифо-сарматской эпохи, мы имеем дело с моделями политогенеза, ведущими к становлению так называемых «военизированных обществ» и «ранних государств», что косвенно проявилось в формировании ярко выраженных субкультур властвующей элиты («скифская триада») или так называемых «государственных культур» (например, в эпоху раннего Средневековья - культуры Хазарского каганата, известной как салтово-маяцкая). Но, кажется, даже в раннем железном веке, да и позже до становления в степи устойчивой цивилизации дело так и не дошло. На это были свои очень серьезные причины.
Цивилизацию нельзя представить без городов, которые являлись своего рода кристаллами ее роста. По большому счету именно города породили тот тип культуры, который принято называть цивилизацией. Как уже отмечалось выше, начиная с I тыс. до н.э. в степи и лесостепи Восточной Европы время от времени появлялись крупные хорошо укрепленные городища, которые по занимаемой площади и рассчетной численности населения многократно превосходили минимальный критерий Г. Чайлда для первых городов. Эти «квазигорода» играли важную роль не только в жизни местного оседлого населения, но и номадов. Они были им необходимы для обмена продуктов скотоводства на ремесленные изделия и другие товары, но, и это надо подчеркнуть, не для функционирования самого кочевого хозяйства. «Степные города», будь то Каменское или Елизаветовское городища скифского времени, хазарский Саркел или золотоордынский Сарай Берке действительно представляли очаги цивилизации среди бескрайних степных просторов. Но цивилизации по существу уже оседлой, а не кочевой. Нигде эти города естественно не вырастали из кочевого уклада, повсюду они являлись во многом искусственными, а главное эфемерным образованиями, возникшими вокруг ставок правителей путем насильственного втягивания людских и материальных ресурсов из зоны зрелых цивилизаций. Срок их жизни был очень короток - как только тот или иной степной народ переходил «от кочевий к городам)?, спустя несколько поколений наступал конец его владычества в силу известного закона «пульсации степей». Даже великие золотоордынские города, пышно расцветшие в XIV в., по словам Г.А. Федорова-Давыдова, оказались историческим «пустоцветом» и в следующем XV в. не оставили после себя ничего кроме величественных руин и воспоминаний .
Исторические источники и этнография указывают, что степняки всегда ощущали враждебность города их традиционному укладу жизни. Назидательные истории на эту тему сохранила как античная - трагическая судьба скифского царя-эллинофила Скила (Herod.: IV. 76), так и средневековая традиции. В знаменитых тюркских надписях Кюль Тегина и особенно Тоньюкюка выражена целая доктрина кочевого антиурбанизма. Тонюкюк сделал выбор и бросил город ради степи . По этой и многим другим причинам степные города не были и не могли стать аккумуляторами достижений и трансляторами традиций собственно степной культуры, без чего невозможно представить становление любой самобытной цивилизации, в том числе, и гипотетической степной. Но дело здесь не только в принципиальной несовместимости цивилизации в изначальном смысле этого слова - а оно все-такие вызывает определенные ассоциации с гражданским обществом и городской жизнью (лат.с/'v/'s, civitas) — и номадизма, где последние отсутствуют или не являются базисными. Гораздо существеннее другое.
Величайшее различие между классическими цивилизациями древности и степными культурами лежит в сфере хранения и передачи социально значимой информации. В степных культурах Восточной Европы как древности, так и средневековья не получил развития важнейший атрибут цивилизации - письменность, точнее, письменная культура. Ряд современных ученых рассматривает именно письменность в качестве обязательного признака цивилизации, отличающего ее от первобытных «доисторических» обществ . Иногда цивилизацию и вовсе определяют как культуру классового общества, овладевшего письменностью. Случаи использования различного рода знаков и письмен хорошо известны как у ранних, так и у поздних кочевников, особенно при переходе на третью стадию кочевания. Но в степных скотоводческих обществах писъмен-ные тексты никогда не относились к числу важнейших «архетипов» их культуры . Степной скотоводческий уклад по самой своей внутренней социально-экономической природе не требовал развития таких сложных систем учета и контроля, которые мы знаем в древнейших цивилизациях и которые, в конце концов, породили потребность в записи этой социально значимой информации. И данные нарративных источников, и данные археологии свидетельствуют, что у подавляющего большинства пастушеских народов не было своих развитых систем письма и тем более корпуса авторитетных текстов, по крайней мере, до перехода к оседлости и возникновения «кочевых империй». В повседневной жизни скотоводы прекрасно обходились традиционными способами передачи значимой для них информации (генеалогии, эпос, зарубки и метки на дереве, разного рода бирки и т.п.). Поэтому у них не получила сколь-нибудь глубокого развития письменная культура - основной передатчик и аккумулятор информации в эпоху цивилизаций, хотя различные знаковые системы, в частности, знаки и тамги хорошо известны. Видимо, это еще в большей мере относится к культурам ранних пастушеских скотоводов эпохи бронзы, хотя в последние годы ряд российских и украинских археологов пишут о появлении у них письменности еще во II тыс. до н. э, а некоторые ее уже уверенно читают . Так в их трудах появляется еще один «искомый» признак «степной цивилизации» эпохи бронзы.
Нет сомнений в том, что ранние и тем более поздние кочевники широко использовали многие достижения цивилизации и в свою очередь внесли свой немалый вклад в сокровищницу мировой культуры. Однако высказанные выше соображения не позволяют мне принять столь модную сейчас гипотезу о «степных цивилизациях». По-прежнему представляется целесообразным применять к степным сообществам традиционные для нашей науки понятия «пастушество» или «пасторализм» (для обществ III - II тыс. до н. э.) и «кочевничество» или «номадизм» (с I тыс. до н. э.). Они более адэкватно выражают их уклад, культурное своеобразие и специфику исторического процесса в степи, нежели весьма неопределенное и аморфное понятие «степная цивилизация». Введение его в научный оборот отнюдь не способствует утверждению цивилизационного подхода к истории, а, как кажется, прикрывает лишь подспудное стремление ряда отечественных археологов (по принципу «чем наши народы или культуры хуже»!) «подтянуть» степных пастухов эпохи бронзы и кочевников железного века до уровня цивилизации. Мне кажется, что все это задает ложное направление исследования, которое может привести лишь к искажению масштабов реальной истории Евразии.
Многолетнее изучение затронутой здесь проблемы убедило меня в том, что древние цивилизации и степные культуры имели различные экономические базисы, практиковали различные способы эксплуатации, использовали разные механизмы сохранения и средства передачи жизненно важной для них информации и культурных традиций, развивались в разных ритмах в соответствии со своими закономерностями, наконец, имели разные исторические судьбы. В силу этих и других причин возможности их исторического развития и пределы роста были разные. Скотоводческие народы с самого начала шли больше по адаптационному пути развития . У кочевников адаптация к природно-климатическим условиям степи достигла таких масштабов, что они становились почти органической частью степных экосистем. В масштабах Всемирной истории степной путь развития, в конце концов, оказался исторически неперспективным. В зонах же цивилизации народы, начиная с эпохи неолита, методом проб и ошибок вышли на трансформационный путь развития, который привел человечество к современному миру. Ранние цивилизации и степные культуры различались даже по своей продолжительности - первые существовали, как правило, несколько тысячелетий, возраст вторых редко превышал два - три века, что уже само по себе для цивилизации маловато. Более того, как показала многовековая история Евразии, даже приближение наиболее «продвинутых» скотоводческих обществ к порогу цивилизации грозило им смертельной опасностью, причем, не только для традиционной степной культуры, но и для самого дальнейшего существования созданных ими этно-политических образований в силу того же универсального закона «пульсации степей». По этой причине практически все известные историками и этнологам степные сообщества имели обратимый характер. При распаде «кочевых империй» уцелевшие номады возвращались к традиционному родоплеменному образу жизни. И в степи почти с «нуля» начинался новый цикл исторического развития. Отсутствие у степняков развитой письменной культуры лишало их глубинной исторической памяти, в частности, о своих предшественниках. В результате тюрки, потомки гуннов, ничего не знали о своих предках также, как монголы Чингисхана ничего не знали о тюрках . Наличие очень глубоких разрывов в истории и культуре Степной Евразии, особенно в годы смены степных владык, по-видимому, составляет одну из особенностей ее развития, начиная, по крайней мере, с эпохи бронзы.
В свете высказанных выше соображений мне представляется более правомерным традиционный подход к пастушеским и кочевым обществам древности не как к каким-то особым «степным цивилизациям», а скорее, наоборот, как к альтернативе цивилизации как таковой. Изучение кочевой альтернативы социальной эволюции представляется весьма перспективным новым направлением в исследовании истории степных и лесостепных обществ Евразии. Однако следует напомнить, что в отличие от некоторых современных ученых альтернативность двух основных миров ойкумены хорошо понимали древние, начиная с «отца истории» Геродота. Он первым обратил внимание на полную противоположность образа жизни и традиций скифов и эллинов, Эта антитеза положена в основу его «Скифского логоса». Особенно ярко она проявилась в знаменитом описании образа жизни скифов, вынесенном в эпиграф к настоящей публикации (IV. 46). В последующей античной литературной традиции эта дихотомия «своего» («цивилизованного») мира и скифского, сарматского и пр. образа жизни еще более усилилась. Аналогичная картина наблюдалась в восприятии китайцами своих степных соседей - юэджей, хунну, позже тюрок и монголов. С точки зрения эллинов, римлян и китайцев мир древних степных номадов Востока и Запада казался предельно «иным», противоположным их «нормальному», «цивилизованному». В этом сказался не только обычный этноцентризм, но и осознание действительных глубинных различий между «людьми, натягивающими луки» и «людьми плуга, пера и книги».
Альтернативность степного мира кочевников древним цивилизациям во многом еще предстоит изучать. Но уже сейчас начинают просматриваться некоторые интересные закономерности их взаимодействия, в частности, механизмы образования кочевнических потестарных объединений в связи с внутренними переменами в зоне цивилизаций. Недавно кочевниковеды обратили внимание на то, что величина кочевых обществ и их могущество прямо пропорциональны размерам и силе соседних оседло-земледельческих цивилизаций, входивших с номадами в единую «мир-систему». И хотя эта идея недавно подверглась конструктивной критике со стороны такого известно научного авторитета, как A.M. Хазанов она представляется весьма плодотворной. Глубинную взаимозависимость степного кочевого и античного миров в Северном Причерноморье отмечают антиковеды и скифологи, а для Дальнего Востока - китаеведы.
Исследование путей социальной эволюции, альтернативных цивилизации, представляется особенно перспективным для разработки новой концепции биполярного исторического процесса в древности, не сводимого только к истории классических цивилизаций Древнего Востока и Античного мира, но включающего народы и культуры степного пояса Евразии.
Начиная с 30-х гг. XX в. палеосоциальная проблематика заняла видное место в отечественных историко-археологических исследованиях по эпохе бронзы и раннему железному веку степной и лесостепной Евразии. Уже тогда в основных чертах сформировалась теория родового строя древних скотоводов Восточной Европы, нашедшая наиболее полное выражение в работе А.П. Круглова и Г.В. Подгаецкого. Этим исследователям удалось в целом удачно наложить известную схему родового строя Моргана - Энгельса на весьма немногочисленные в то время данные о степных, преимущественно курганных древностях. Их труд оставался настольной книгой нескольких поколений археологов, занимающихся проблематикой эпохи бронзы.
Однако с 70-х гг. в отчественной археологии наступает время смены основной исследовательской парадигмы в изучении социального строя скотоводов эпохи бронзы. Этому были как минимум две причины. Во-первых, старая родовая теория все чаще вступала в противоречие с новыми археологическими материалами, прежде всего, с результатами раскопок больших степных курганов. Их изучение все нагляднее свидетельствовало об ином, более высоком уровне социального развития оставивших их обществ, чем это позволяла старая научная доктрина. С другой стороны, в 60 - 70-е гг. отечественные археологи познакомились с теорией выдающегося французского ученого Ж. Дюмезиля . Тогда представлялось, что он весьма убедительно доказал изначальное деление индоевропейских и, в особенности, индоиранских обществ на три обособленных социальных слоя: жрецов, воинов-колесничих и свободных производителей -скотоводов и земледельцев Переход к новой исследовательской парадигме окончательно обозначился к середине 70-х гг. после раскопок В. Ф. Генингом могильника Синташта и публикации Е. Е. Кузьминой первых работ по социальной и этнической проблематике древнейших скотоводов Юга Восточной Европы.
Обращение археологов к богатому теоретическому наследию Ж. Дюмезиля, безусловно, стимулировало исследования по этно-социальной тематике эпохи бронзы, нацеливало их на более конкретную социальную интерпретацию погребений. В могильниках абашевской, раннесрубной и синташтинской культур выделяется серия захоронений с довольно ярким инвентарем воинов-колесничих. Не вызывает сомнений их соответствие второму сословию в теории Ж. Дюмезиля. Не возникало трудностей и с соотнесением основной массы курганных погребений с третьим сословием - рядовыми скотоводами и земледельцами. Однако совсем иначе дело обстояло с выделением и предлагаемой атрибуцией представителей первого сословия - жрецов. По моим наблюдениям, в настоящее время уже накопилось более десятка вариантов предлагаемых археологами атрибутов представителей этого сословия.
- Ритуальная деревянная посуда для приготовления и употребления священного напитка ариев — сомы (хаомы).
- Каменный или деревянный столб в погребении или рядом с ним.
- Наличие особой ритуальной площадки, ограды, ровика, вымостки, валообразного сооружения, интерпретируемого как святилище .
- Особый обряд погребения: кенотаф, сидячая поза, кремация покойника.
- Курганные насыпи необычной овальной или удлиненной формы, иногда с перемычкой ("гантелеобразные").
- Богато орнаментированная керамика, украшенная крестами, свастиками и т.п.
- Костяные лопаточки с втулкой в абашевских и синташтинско-потаповских погребениях, связываемые с культом Агни, Индры, Сомы .
- Ряд "жреческих" признаков предложен для погребений катакомбных культур, которые отдельными исследователями также признаются индоарийскими.
- Погребения с глиняными масками.
- "Флейты Пана"
- Курильницы и жаровни.
- Молоточковидные булавки.
- Связка "шило-нож" .
- Бусы-четки.
Используя признаки 1-6, В.В. Отрощенко даже попытался подсчитать количество жреческих погребений и определить их процент (у срубников в целом 3,3 %, у срубников Украины несколько выше - 4 %) . Еще дальше пошел А.Т. Синюк. На основании применения многих из перечисленных критериев он пришел к заключению, что едва ли не большинство подкурганных погребений эпохи бронзы принадлежало сословию служителей культа. Более того, в последнее время он выдвигает тезис о наличии в общественном устройстве «ярких признаков теократизма» еще на исторической прародине ариев в южнорусских степях .
Как мы видим, количество предлагаемых жреческих атрибутов очень велико. Уже само по себе это обстоятельство настораживает и заставляет вспомнить старый принцип лингвистов - надежность этимологии обратно пропорциональна их количеству. Многие из предложенных в последние годы атрибутов явно не достаточно обоснованы свидетельствами индоиранской традиции. Другие не обнаруживают в ней сколь-нибудь надежных корней. Не имея здесь возможности проанализировать все «жреческие» признаки, остановимся на двух, наиболее популярных в последнее время.
Деревянные сосуды как атрибуты «жреческой» принадлежности отдельных сруб-ных погребений. В «Ригведе» действительно упоминаются чаши и ковши из дерева для употребления сомы . Поэтому В.В. Отрощенко вслед за И.Ф. Ковалевой вполне правомерно попытался интерпретировать находки деревянных сосудов в срубных погребениях в качестве их жреческих атрибутов . Может быть, действительно какая-то часть деревянных сосудов из степных погребений употреблялась жрецами в ритуалах, связанных с сомой . Но отделить их надежно от деревянной посуды, используемой для профанических целей, пока не представляется возможным. Хорошо известно, как широко деревянная посуда употреблялась в быту номадов самых различных эпох и регионов Евразии (Herod. IV. 2). Так, в пазырыкской культуре деревянные блюда и кружки ставили в могилы умерших всех социальных рангов. Мало подкрепляют «жреческую» атрибуцию погребений ссылки на встречаемость деревянных сосудов с металлическими накладками в скифских погребениях. Их нет в раннескифских захоронениях VII - VI вв. до н. э. Они характерны для погребений V в. до н. э., а в следующем IV в. до н. э. уже выходят из употребления. К тому же у скифов эти сосуды встречались, как правило, в погребениях вместе с набором вооружения, характерным для воинов.
Другой атрибут жреческих погребений средней бронзы - «флейты Пана». Термин предложен Н. Макаренко, использовался И.В. Синицыным, а в последнее время подхвачен Ю.А. Шиловым и другими исследователями. Сейчас находкам костяных трубочек в погребениях ранней и средней бронзы придается глубокий сакральный смысл. Однако подобная интерпретация «флейт» явно противоречит хорошо изученной индоевропейской музыкальной традиции. Мне не удалось найти свидетельств их использования для сопровождения религиозных гимнов. Дело заключается в том, что у различных индоевропейских народов флейта, дудка и подобные им духовые инструменты являлись элементами «низовой» народной культуры. Для сакральных целей они не подходили по одной причине - при игре на флейте жрецу нельзя сопровождать гимны, так как его уста заняты. Это хорошо осознавали древние. Поэтому не случайно у греков «мусические» искусства четко делились на возвышенную мелику, сопровождаемую игрой на кифаре (лире), и более низкую авлетику (от греч. "авлос" - флейта). Именно флейты сопровождали праздничные дионисийские шествия, которые Гесихий квалифицировал как «похотливые и распутные песни». Для сопровождения гимнов арии, греки, фракийцы, кельты, галлы, славяне в древности использовали струнные инструменты, позволявшие жрецам «петь» гимны. Инструменты типа «флейты Пана» в «Риг-веде» и «Авесте» не известны. В поздневедийской литературе упоминается лишь одноствольная дудка - «вина». Кажется логичнее рассматривать подобные находки в древ-неямных и катакомбных захоронениях по их прямому назначению - в качестве пастушеских музыкальных инструментов. Именно в это время, как никогда позже, получает развитие традиция включать в состав погребального инвентаря инструменты, подчеркивающие профессиональную принадлежность их владельцев.
Между тем, как мне представляется, исследователи социальных структур степных скотоводов эпохи бронзы неоправданно опускают сведения о жрецах и прорицателях у скифов и других евразийских номадов I тыс. до н.э. Игнорирование этого весьма перспективного направления научного поиска еще более непонятно, так как речь идет о жречестве в обществах древних скотоводов, ираноязычие и иранская принадлежность которых не вызывает никаких сомнений.
Геродот сообщает следующее:
«Прорицателей у скифов много. Они прорицают с помощью большого числа ивовых прутиков следующим образом: принеся большие пучки прутиков, они, положив их на землю, разъединяют и, раскладывая прутья по одному, вещают и, произнеся прорицания, одновременно снова собирают прутья и опять по одному складывают [их]. У них это искусство прорицания, идущее от отцов, а энареи — женоподобные мужчины, говорят, что им искусство прорицания дала Афродита. Так вот они прорицают по коре липы. [Прорицатель], разрезав кусок коры на три части, переплетая и расплетая их вокруг своих пальцев, пророчествует» (Herod.: IV. 67).
Таким образом по рассказу «отца истории» у скифов существовало два рода жрецов-предсказателей:
1) прорицатели с помощью ивовых прутьев;
2) прорицатели-энареи, гадавшие с помощью липовой мочалы.
Здесь нас будут интересовать только первые - хранители искусства прорицания, «идущего от отцов» - в отличие от энареев, появившихся у скифов во время их перед-неазиатских походов VII в. до н. э. Наличие подобного способа гадания с помощью прутьев у алан засвидетельствовал Аммиан Марцеллин:
«Их способ предугадывать будущее странен: связав в пучок прямые ивовые прутья, они разбирают их в определенное время с какими-то таинственными заклинани-ми и получают весьма определенные указания о том, что предвещается» (Amm. Marc: XXXI. 2, 24). Есть и прямые этнографические свидетельства сохранения этого способа гадания у потомков скифов и алан - современных осетин. У них оно называлось «фсёрссён фат». Это способ гадания наблюдал и описал В.Ф. Миллер в 1880 г. По сообщению осетинского этнографа конца XIX в. С. В. Кокиева, «У каждого из знахарей есть четыре небольшие палочки, с одного конца расщепленные, посредством их-то они открывают смысл происходящего». Спустя много лет осетинское гадание на палочках застал Е. Баранов .
Погребения прорицателей первого рода известны как у скифов, так и савроматов. Так, в скифском захоронении у с. Первомаевка (к.1, п. 1.) вместе с погребенным мужчиной 40 - 45 лет найден набор из девяти палочек для гадания. Они находились в специальном цилиндрическом футляре из толстой бересты и имели длину 25 - 30 см при толщине 0,5 см. На трех палочках сохранилась накрученная кожаная тесьма шириной 1 см. Любопытно, что по остальному инвентарю (пластинчатый панцирь, пара железных наконечников копий, колчаный набор из 82-х бронзовых наконечников стрел, нагайка) это погребение чисто воинское, дружинное. Помимо оружия в состав его сопровождающего инвентаря входило большое деревянное блюдо с остатками заупокойной пищи - частью туши коровы вместе с железным ножом.
Не менее яркое жреческое «савроматское» погребение было открыто К.Ф. Смирновым в курганной группе Мечет-Сай. Здесь покойника положили на толстый слой травы и хвороста, затем его засыпали горящим деревом или развели мощный костер в самой могиле (рис.24, а). Труп погребенного сплошь обуглился. Вдоль его левой руки лежал пучок очень ровных тополевых прутьев, все длиной 60 см. Благодаря обугливанию они очень хорошо сохранили свою форму. На кисти левой руки и на пучке прутьев лежала сильно обгоревшая деревянная миска. Уже К.Ф. Смирнов задавал себе вопрос: не был ли здесь погребен гадатель на прутьях или жрец (жрица?) со священным пучком, подобным тем, которыми обладали мидийские маги и жрецы зороастрийского культа?
Наличие именно такого атрибута у иранских жрецов подтверждает и иконография, в частности изображение жреца на знаменитой золотой пластине из Аму-Дарьинского клада . В правой руке он сжимал связку длинных прутьев - священный "барсом" или "барсман" (рис.24, б).

При раскопках Персеполя Э. Шмидт обнаружил оттиск печати с изображением жреческого ритуала. На этой печати два мага стоят перед алтарем. Один из них, одетый в опоясанный кафтан с длинными рукавами, держит в правой руке прутики - авестийский "барсман", а второй с башлыком из войлока, характерным для магов, протягивает палочки к священному огню. Этот древний ритуал точно описал Страбон, наблюдавший его воочию в одном из персидских святилищ в Каппадокии (XV. 3, 15).
Я не случайно напомнил здесь данные о жрецах с "барсомом", встречающиеся у самых различных ираноязычных народов с I тысячелетия до н. э.: у скифов, савроматов, согдийцев, мидийцев, алан и осетин - последних потомков «европейских иранцев». Широкое распространение этого сакрального атрибута как у восточно- , так и у запад-ноиранских народов делает весьма вероятным его существование по крайней мере с эпохи общеиранской общности, т.е. со II тыс. до н.э. Разумеется, только прутьями, палочками или "барсомом " атрибуты древнеиранских жрецов не ограничивались. Их поиск активно ведется в последнее время. Предложенный ретроспективный подход расширяет эвристические возможности археологических источников, в том числе и для эпохи бронзы и, возможно, позволит выделить реальные погребения жрецов у скотоводов II тысячелетия до н. э.
Post scriptum № 1 2004 г. Уже после выхода в свет первой публикации этой статьи мне стало известно п. 23 к. 4 могильника Эвдык в Северном Прикаспии . Погребение относится к новосвободненскому этапу эпохи ранней бронзы. Оно было совершено в прямоугольной яме с нишей, отделенной 7 столбовыми ямками. Дно посыпано мелкими древесными углями и мелом. На дне лежали остатки двух скелетов - взрослого и ребенка. У тазовых костей взрослого человека стоял бронзовый котел с закопченными бочками, у которых зафиксированы отпечатки тонких прутиков диаметром 0,5 см уложенных сверху вниз, параллельно друг другу. Авторам публикации их назначение осталось неясно. Мне представляется, что это одна их самых древнейших находок атрибутики жреца-предсказателя, тем более, что и остальной материал не противоречит этому выводу. В частности, при скелете ребенка был положен каменный полированный пест, кусок железняка и кусок кремня.
Еще одно жреческое погребение скифской эпохи найдено далеко на востоке в татарском могильнике Медведка II (к.1, мог. 1). В нем обнаружен пучек прутьев, обернутых берестой. Так что процесс пополнения фонда погребений с надежной жреческой атрибутикой от эпохи ранней бронзы до раннего железного века включительно продолжается. Но мне кажется, ждать подобных многочисленных открытий было бы наивно, несмотря на указание «отца истории», что предсказателей у скифов много (IV. 67). Еще четверть века назад Д.С. Раевский обратил внимание на трудности выделения среди скифских памятников погребений жрецов, ссылаясь на аналогичную проблему в кельтской археологии. По характеру самой своей профессии мало кто из них умирал естественной смертью. Геродот красочно описал трагическую судьбу предсказателей-неудачников у скифов, которых сжигали в повозках с хворостом, запряженных быками (IV. 68 - 69). Из его рассказа видно, что нередко случались их массовые казни, причем вместе с лжегадателями умерщвлялось и все их потомство мужского пола. Правда, все сказанное выше относится лишь к одной группе священнослужителей, подобных скифским предсказателям. О судьбе других, например энареев, мы ничего не знаем.
Post scriptum 2. В 1999 г. вышла в свет очень интересная статья А.Н. Усачука, посвященная вопросу о функциональном назначении костяных трубочек из погребений эпохи бронзы. На основании тщательно проведенного комплексного исследования большой серии трубочек из костей животных и птиц, включая их трассологический анализ, автор пришел к весьма правдоподобному заключению, что значительная часть подобных находок представляла детали духовых инструментов типа флейт. Он привел ряд интересных свидетельств в пользу их использования в качестве пастушеского инвентаря . Действительно, в архаических обществах искусство пастьбы скота неотделимо от искусства игры на флейте, рожке, жалейке и т.п. Именно такие духовые инструменты являлись непременными атрибутами пастухов, начиная с энеолита и вплоть до этнографической современности. Поэтому мысль А.Н. Усачука о принадлежности погребений с остатками духовых инструментов профессиональным пастухам эпохи бронзы мне представляется исключительно плодотворной. Как уже отмечалось выше, захоронения с духовыми музыкальными инструментами, в том числе, с «флейтами Пана», несмотря на их немногочисленность, очень хорошо вписываются в погребальные традиции эпохи ранней и средней бронзы с инвентарем, подчеркивающим профессиональную принадлежность их владельцев (мастера-литейщики, кузнецы, плотники, ювелиры и т.п.). Безусловно, игра на флейте или рожке могла иметь и магическое значение. Но более вероятно, что в данном случае ее совершал все-таки пастух, а не священослужи-тель-жрец.
Post scriptum № 3. В том же 1999 г. были опубликованы тезисы доклада В.В. Отрощенко под само за себя говорящим названием «В защиту сакральной функции». Они целиком направлены против основной идеи моей настоящей статьи, призывавшей исследователей более строго относится к выделению жреческих погребений в обществах скотоводов эпохи бронзы - раннего железного века. К сожалению, заявленный доклад на конференции не был произнесен, но его смыл и так предельно ясен, а тон - откровенен. Так же отвечу и я. Моя небольшая статья направлена вовсе не против са-кральности как таковой - в ее наличии у пастушеских и кочевых племен евразийских степей III - I тыс. до н. э. никто не сомневается, а против той легкости (а то и откровенного произвола), с которым археологи, особенно специалисты по эпохе бронзы выделяют десятки и сотни жреческих погребений. По существу к настоящему времени все аномальные погребения срубной культурно-исторической общности, например, сожжения объявляются жреческими. Но этнографы назовут нам массу иных причин, по которым то или иное погребение могло быть совершено с явным отклонением от обычных норм, в том числе, по причинам, совсем далеким от сакральности. Настораживает и все более возрастающее число «жреческих» атрибутов и признаков, которые используют археологи для выделения захоронений носителей сакральной функции. Бросается в глаза и удивительная невосприимчивость отдельных археологов к открытиям своих же коллег, исследования которых явно не подтверждают предложенную им ранее жреческую атрибутику. Приведу лишь еще один пример социальной интерпретации срубных погребений с деревянной посудой. Если В.В. Отрощенко при трактовке подобных сосудов как вместилищ священной сомы опирался лишь на ссылки из весьма далекой от украинских степей «Ригведы», то В.В. Цимиданов в 1996 г. поступил проще - проанализировал уцелевшее содержимое тех самых сосудов. В результате он пришел к заключению, что в некоторых из них находились остатки мясной пищи. А таковую вряд ли кто из археологов решится интерпретировать исключительно как пищу сословия жрецов. Широкое использование в погребальной обрядности деревянных мисок, подносов, столиков для помещения на них напутственной мясной пищи - факт слишком хорошо известный, чтобы на нем еще раз акцентировать внима-ние.
Приведенные примеры показывают шаткость социологических построений современных археологов (деревянный сосуд = вместилище священной «сомы-хаомы», а вместо нее в некоторых сосудах - мясная напутственная пища), направленных на выявление жреческого статуса древних погребений. Мне кажется, сейчас нужно не выступать с лозунгом в защиту сакральности, а скрупулезно изучать ее проявления, в первую очередь по более достовереным атрибутам, которые иранская традиция донесла до исторических времен. И чаще включать «внутреннего цензора» - тогда в науке не будет фантазий на тему о существовании мощной и влиятельной варны жрецов еще в евразийских степях задолго до ее появления в Индии. В этом смысле заслуживает уважения научная позиция Е.Е. Кузьминой, недавно публично признавшей отсутствие надежных археологических данных для выделения в культурах степной бронзы захоронений представителей именно этого сословия.
Уже почти три столетия для скифологов важнейшим источником является «История» Геродота. Не смотря на впечатляющие, а иногда просто сенсационные открытия археологов в скифских курганах и на городищах, нужно признать, что все же именно к Геродоту восходит ядро наших знаний о скифах и их соседях. И это далеко не случайно. Как ни один античный автор Геродот придал определенную окраску истории и культуре Скифии, «создав» яркие литературные образы скифов и других народов Юга Восточной Европы. Именно благодаря этому источнику скифы и их соседи приобрели черты этнографической и исторической реальности. Во всяком случае, не будь «Скифского логоса», наши представления об этносах Северного Причерноморья, реконструируемые только средствами археологии, наверняка выглядели бы иначе и уж, несомненно, гораздо беднее, чем их видели современники-греки.
Разумеется, признание этой заслуги не означает, что всякое сообщение «отца истории» всегда объективно, зеркально отражало реалии скифской жизни. Любое из них может стать научным фактом лишь после того, как исследователи провели его тщательную историческую критику. К концу XX в. становится все более очевидной жанровая специфика «Истории» Геродота, породившая уже в древности оценки и споры, не утихающие и по сей день . Она приобретает особую актуальность при использовании его труда в качестве исторического источника, когда требуется максимально учесть степень ее влияния на характер и качество содержащейся в «Скифском логосе» историко-этнографической информации . Ни у кого из исследователей сейчас не вызывает сомнений то обстоятельство, что не только построение и содержание первого исторического труда, но и сам принцип отбора фактического материала у Геродота во многом были обусловлены иными мотивами (религиозными, этическими, эстетическими), нежели у современных историков или этнографов. Без их учета в целом и в каждом конкретном случае в отдельности вряд ли когда-либо удастся достоверно реконструировать скифскую историю. Мне представляется, не приподняв этой геродотовой и шире эллинской «вуали» с образа Скифии, мы рискуем так и не увидеть ее истиного лица. И здесь свое весомое слова должны сказать археологи, которые открывают и изучают совершенно независимый от античной традиции источник - остатки реальной материальной культуры Скифии. Однако, как показывает опыт отечественной скифологии, сама процедура сопоставления геродотовых описаний и материальных остатков часто решается археологами весьма поверхностно, зачастую без всестороннего глубокого анализа и внутренней критики привлекаемых источников. Яркий пример тому - проблема локализации геродотова Гелона и этнокультурной принадлежности его обитателей.
При описании «страны будинов» Геродот упоминает единственный в Скифии город. «Будимы — племя большое и многочисленное; все они светлоглазые и рыжие. В их области выстроен деревянный город; название этого города Гелон. Длина стены с каждой стороны -30 стадиев; она высокая и геликом из дерева; и дома у них деревянные и храмы. Там есть храмы эллинских богов, украшенные по эллински деревянными статуями, алтарями и наосами. И каждые три года они устраивают празднества в честь Диониса и впадают в вакхическое иступление. Ведь гелоны в древности - это эллины, которые покинули гавани и поселились у будинов. И говорят они на языке отчасти скифском, отчасти эллинском» (IV. 108). Особое внимание «отца истории» к этому городу, видимо, было обусловлено не только его уникальностью, но и совершенно необычным для Скифии образом жизни гелонов, в первую очередь - жизни религиозной. Поэтому, видимо, с Геродота следует начинать жанр античной «тауматургии» - описания удивительных явлений, который пышно расцветет в эпоху эллинизма.
Автор исходит из того, что пассаж Геродота о городе Гелоне и его обитателях является органической частью не только «Скифского логоса», но и всей его «Истории». Поэтому он так или иначе должен подчиняться общим принципам геродотова дискурса, характерным для всего его труда, и анализироваться в контексте мировоззрения и научных интересов «отца истории» - образованного и любознательного эллина эпохи наивысшего взлета греческой цивилизации. На мой взгляд, такой подход позволяет более объективно и адэкватно учесть реальный гносеологический потенциал ранних исторических и этногеографических описаний, к которым в полной мере следует отнести и труд Геродота.
Давно установлено, что степень достоверности его рассказов в первую очередь зависела от характера использованных им источников. Их выявление и оценка - один из наиболее сложных, но и плодотворных путей к познанию еще неизведанных смысловых глубин сочинения Галикарнассца. Как сейчас надежно установлено, помимо очень немногочисленных сочинений своих предшественников-логографов он использовал три основных источника информации: — личные наблюдения, собственные впечатления, то, что он видел собственными глазами; 'акоп - слухи, то, что он слышал со слов других; Чоторгл и yvooiin - собственные расследования (распросы местных жителей) и авторские умозаключения. Рассказ Геродота о городе Гелоне скорее всего восходит к 'акоп или Чоторгл, но никак не к '6\|/ц. Во всяком,случае он не содержит ни прямых,ни косвенных признаков непосредственной автопсии.
Известно, что там, где Геродот не мог выступить в качестве очевидца, он искал тех, кто сам посетил эту страну. Впрочем, в другом месте Геродот сам указал своих информаторов о стране будинов и гелонов, вступив с ними в полемику: «Эллины, однако, и будинов называют гелонами, называют неправильно» (IV. 109). В свое время И.Хар-матта предположил, что здесь «отец истории» полемизирует с Гекатеем Милетским, а С.А. Жебелев - с Дионисием Милетским. Однако, мне представляется, что здесь речь идет не о логографах, а скорее о современниках Геродота - возможно, о тех самых эллинских купцах, которые совершали далекие путешествия из «Гавани борисфенитов» и других понтийских гаваней в сторону Приуралья к аргиппеям и исседонам (IV. 24). Именно у них «отец истории» мог разузнать о достопримечательностях далекого заскифского Северо-Востока. Известно, что во времена Геродота устная этнография была чрезвычайно развита. Да и чисто эллинская культовая терминология в описании святынь Гелона также указывает на то, что о них путешественнику, скорее всего, рассказали не скифы, а греки, бывавшие в этом городе по торговым делам.
Из свидетельства Геродота о Гелоне явствует, что город был окружен высокой деревянной стеной, длина которой с каждой стороны составляла 30 стадий, то есть порядка 6 км. Исследователи давно уже обратили внимание на исключительно большие размеры этого города, периметр укреплений которого определялся в пределах 22-26 км. До сих пор это сообщение являлось ключевым в поисках учеными археологического эквивалента геродотову Гелону - городища с укреплениями таких размеров, которые бы более или менее совпадали с указанными «отцом истории». В конечном итоге именно оно сыграло определяющую роль в отождествлении геродотова Гелона с Бельским городищем на Ворскле. Действительно, общая протяженность его внешних укреплений (25,995 км) оказалась весьма близка длине деревянных стен Гелона (рис.23,а) .
К настоящему времени, после широкомасштабных раскопок Б.А.Шрамко локализация Гелона на Вельском городище приобрела в нашей науке по существу форму аксиомы, хотя время от времени раздавались вполне обоснованные возражения против нее. Однако, насколько известно, никто из исследователей до сих пор не задался целью проанализировать степень достоверности самого геродотова свидетельства прежде всего в контексте его описаний других древних городов, гораздо лучше известных Галикарнассцу нежели далекий заскифский Гелон.
Анализ всей совокупности прямых и косвенных геродотовых свидетельств о размерах античных и древневосточных городов, содержащихся в «Истории», убеждает в том, что в ней ни в одном случае не удается найти сколь-нибудь близкого соответствия между их количественными характеристиками и независимыми данными других источников, прежде всего археологических. В этом отношении весьма показательно подробное описание «отцом истории» самого знаменитого и могущественного города Азии - Вавилона, недавно детально проанализированое Р. Роллингером. «Построен Вавилон вот как. Лежит он на обширной равнине, образуя четырехугольник, каждая сторона которого 120 стадий длины. Окружность всех четырех стен города составляет 480 стадий... » (I. 178).
Оставляя в стороне многие достоверные реалии «Вавилонского логоса», обратим внимание на сообщение Геродота о размерах его укреплений. По словам «отца истории», длина окружности четырех стен Великого города, составляла 480 стадий, то есть в аттических стадиях около 85 км, а в "царских" стадиях - не менее 95 км! Сравним эти данные с длиной укреплений позднего Вавилона в аутентичных клинописных текстах. Ассирийский царь Ассархадон, приступая к восстановлению Вавилона в 680 г. до н.э., описывал его как квадрат, окруженный стенами, со стороной в 30 ашлу (3600 локтей). Следовательно, периметр городских стен составлял тогда 14400 локтей, то есть 7,2 км. Те же размеры называет последний вавилонский царь Набонид . По данным археологии, в частности по Р.Кольдевею длина стен Вавилона не превышала 8,15 км, а по рассчетам О.Е. Равна - максимум 12 - 15 км . Сопоставление показывает, что Геродот не менее чем в 8 - 10 раз преувеличил реальные размеры Вавилона! Попутно замечу, что не менее чем в два раза "отец истории" завысил размеры знаменитой Вавилонской башни, вместо восьми открытых ворот, открытыми археологами, назвал сто и т.п. В последнем случае Геродот, видимо, следовал давней поэтической традиции описания великих городов, в частности, "стовратных Фив" у Гомера (П.: IX. 381 - 384) . В ходе археологических раскопок установлено, что Вавилон во времена Геродота в плане имел не квадратную, а вытянутую прямоугольную форму площадью не более 12 кв. км (рис.23,6).
На первый взгляд столь грубые ошибки в описании Вавилона кажутся удивительными и непонятными, ибо достоверно известно, что в отличие от далекого и труднодоступного для эллинов заскифского Гелона «отец истории» не только посетил «Врата Бога», но даже какое-то время там проживал. На это указывают многочисленные свидетельства его автопсии, которые не вызывают сомнений у большинства современных исследователей , в том числе, точное описание своеобразной кладки вавилонских стен из сырцовых кирпичей, скрепленных битумом. Но не следует забывать, что Геродот (как и любой из его информаторов) был сыном своего времени, носителем еще "донаучного" мировоззрения, которое во многом обуславливало иное отношение к историческим памятниками, историческим источникам и, особенно, к цифровому материалу, нежели у современных ученых. Зачастую сама по себе точность последних его мало интересовала. В последнее время это еще раз доказали по материалам «Скифского логоса» М.В.Скржинская и Д.С. Раевский . Разумеется сам путешественник в Вавилоне каких-либо архитектурных обмеров не производил, а брал на веру сообщения его информаторов,часто искаженные при переводе на греческий язык. Известно, например, что те же жители Вавилона снабжали Геродота далеко не всегда достоверными сведениями, на что еще раз недавно обратила внимание М. А.Дандамаева.
Все это наводит на мысль, что и данные Геродота о длине стен Гелона вряд ли могут быть использованы как надежный диагностический признак при его идентификации с тем или иным археологическим памятником . Если же мы примем за доказанное активно используемое большинством исследователей отождествление Вельского городища с городом Гелоном, то тогда это будет, пожалуй, единственный случай точного совпадения сведений «отца истории» и данных археологии о древних городах, что представляется весьма маловероятным.
Здесь уместно напомнить, что отождествлению с Гелоном противятся и другие признаки Вельского городища: его географическое расположение в Левобережье Борисфена-Днепра, а не в Левобережье Танаиса-Дона, к северу или к северо-востоку от «земли савроматов», если строго следовать тексту Геродота ; его неправильно треугольная форма; принадлежность обитателей Западного Вельского городища к правобережной культурной традиции, которую современные исследователи могут связывать либо со скифами-пахарями либо с неврами, но никак не с гелонами ; наконец, ясно описанные Геродотом храмы, статуи, алтари и даже культ Диониса, свидетельством которого вряд ли могут быть примитивные глиняные антропоморфные фигурки, найден-ные на этом, как впрочем, и на многих других лесостепных городищах . На мои взгляд, видеть в подобных находках следы культа, близкого дионисийскому - это требовать от источника гораздо больше информации, чем в нем на самом деле содержится.
В тоже время специальный экскурс об эллинских святынях и культах в граде Гелоне несомненно свидетельствует о том, что «отец истории» придавал им особое значение в рассказе о народе гелонов. Недавно Ф. Артог обратил внимание на то, что у Геродота храмы, статуи, алтари и особенно культ Диониса служат своего рода важнейшим этнографическим критерием греков (grecite), отличающим их и египтян,от которых эллины заимствовали свой пантеон и культы, от варваров (Herod.: П. 4) . Действительно, этой культовой триады нет у скифов. «У них не принято воздвигать ни изображений ('ауаА/иат), ни алтарей фсо/uovg), ни храмов (vrjovg) никому из богов, кроме Ареса» ( Herod.: IV. 59). Причем, последующее детальное описание Геродотом жертвоприношения в честь скифского бога войны наглядно убеждает читателя в его принципиальном отличии от греческих святилищ (IV. 62). Еще более разительно различались эти этносы по отношению к культу Диониса: если гелоны ему поклонялись, то скифы убили своего царя-отступника Скила, совершившего обряд посвящения этому божеству (IV. 78 - 80). В другом месте историк замечает, что и у персов не в обычае воздвигать храмы, статуи, алтари (I. 131). На этом фоне наличие эллинской культовой триады в Гелоне, не говоря уж о регулярных вакхических обрядах, может быть понято однозначно - с точки зрения Геродота, в этом сакральном центре проживали потомки эллинов . Поэтому, может быть, не случайно для обозначения Гелона он использует типичный для греческой политической лексики термин полис , хотя само его описание дано скорее в урбанистическом, а не в политическом смысле .
Однозначно ответить на вопрос, что скрывается за перечисленными Геродотом эллинскими элеменами культуры Гелона, сейчас, думается, невозможно. Может быть речь идет о еще неизвестном архаическом греческом эмпории, возникшем внутри варварского поселения, как это позже случилось с Елизаветовским городищем на Нижнем Дону. Однако не исключено, что Геродотов рассказ о городе Гелоне и его обитателях в конечном итоге был плодом наивной греческой этимологии по принципу созвучия этнонимов 'EAArjvsg и rsAcovoi, на что уже давно обращалось внимание35. Для Геродота, как впрочем и для других античных авторов (или их информаторов), извлечение информации из этнонима - дело обычное. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить его характеристики андрофагов (IV. 106) и меланхленов (IV. 107). По существу они не содержат ничего из того, чего не было бы уже a priori в этих псевдоэтнонимах. Скорее всего и геродотова характеристика будинов как кочевого народа также была обусловлена созвучием этого этнонима с греческими словами рои<; - "бык" и 6ivsi3siv - "кружиться", "скитаться", на что позже обратил внимание живой носитель эллинской речи лексикограф Стефан Византийский. В его "Этнике" отмечается, что будины - скифское племя, называемое так потому, что кочуют на телегах, влекомых быками (Steph. Byz, Ethnic, s. v. pou6ivoi). He так давно В.И. Абаев, возможно, выявил еще один яркий образчик адаптации Геродотом (или его информаторами) местного иранского этникона gauwarga в греческих ysopyoi . Подобным путем и туземные гелоны вполне могли превратиться в потомков эллинов со всеми присущими им этнокультурными атрибутами. Безусловно, их отождествлению способствовала широкая популярность имени «Гелон» среди греков: Гелон - эпоним сицилийского города Гелы; Гелон - сын Дейномена, тиран Гелы; Гелон - спартанец, победитель на 44-х Олимпийских играх; Гелон - леонтинец, посланец в Афины в 433/432 гг.до н.э и др. .
При таком подходе к источнику становятся во многом понятными и другие культурно-бытовые характеристики гелонов, в том числе их занятия не только земледелием, но и садоводством и даже совсем уж необычный для Скифии урбанизм. Напомню, что с точки зрения эллинов, все это - непременные признаки нормального, «цивилизованного» образа жизни. Поэтому искать им прямые археологические соответствия в скифоидных лесостепных культурах - дело увлекательное, но,как кажется, малоперспективное. Если мы обратимся к весьма немногочисленной, особенно по отношению к вскрытой площади (более 50 тыс.кв.м.), группе бельских находок греческого происхождения, то убедимся, что все они, включая и случайно найденные перстни, не выходят за рамки обычного античного импорта . Во всяком случае, здесь до сих пор не найдено бесспорных свидетельств проживания на Вельском городище групп населения с признаками эллинской культурной традиции. Среди немногочисленной серии бельских граффити нет ни одной читаемой греческой надписи. Поэтому и эта категория находок вряд ли пока может свидетельствовать, что жители Вельского городища не только говорили по-эллински, но и умели читать и писать.
В целом, сопоставление образа геродотова Гелона с культурным обликом хорошо изученного к настоящему времени Вельского городища свидетельствует о том, что между ними гораздо больше различий, чем сходства. В тоже время, вряд ли кто из современных исследователей сможет указать какое-либо иное городище к северу от Степной Скифии, где были бы открыты свидетельства, соответствующие геродотову Гелону. Я ни в коей мере не хочу утверждать, что последний целиком является плодом литературной фантазии Геродота или его информаторов. Но, видимо, рассказ о нем дошел до «отца истории» в столь искаженном виде, что опознать в нем какие-либо реалии сейчас не представляется возможными, правда, если речь не идет о еще неизвестном науке архаическом греческом эмпории в глубине Скифии. Так что, может быть, Гелон еще ждет своего открытия.
К информации, полученной путем Чоторгл и yvooiin скорее всего относится и геро-дотово заключение о языке гелонов. «И говорят они на языке отчасти скифском, отчасти эллинском» (IV. 108). Складывается впечатление,что здесь «отец истории» просто попытался рационально согласовать две различные версии происхождения гелонов:
1. Рассмотренный выше рассказ о гелонах как потомках эллинов (IV. 108);
2. «Понтийскую» легенду о происхождении скифов и их соседей (IV. 8 - 10). Из последней явствует, что гелоны являлись потомками мифического прародителя Гелона -одного из старших братьев Скифа (эпонима скифов). Не вдавясь сейчас в сложный вопрос о принадлежности этой легенды скифам греками или гелонами , обращаю внимание на главное - эта легенда, вопреки сообщению Геродота в IV. 108 прямо утверждала кровное родство гелонов со скифами. Может быть, здесь и следует искать истоки геродотова заключения о двуязычии гелонов. Весьма примечательно, что вторая версия получила дальнейшее развитие в античной традиции, начиная с Аристотеля, который сообщает следующее: «У скифов, называемых гелонами, водится редкое животное, которое называется тарандром» (De mir.ausc.: 30). Во всяком случае, на знаменитом серебряном сосуде из Частых курганов, где, скорее всего, запечатлена понтийская легенда о происхождении скифов, не только прародитель последних, но и его старшие братья - герои-эпонимы гелонов и агафирсов одеты как типичные варвары-скифы (рис17).
Подведем основные итоги нашего анализа.
- Сопоставление геродотова «образа Гелона» и современных археологических данных о Вельском городище скорее заставляет усомниться в их тождестве, чем признать последнее;
- Описание «отцом истории» культовых сооружений и религиозных обрядов гелонов свидетельствует о том, что с его точки зрения последние были потомками настоящих эллинов;
- Сообщение Геродота о двуязычии гелонов может быть является еще одним свидетельством его «редакторской» работы с различными по происхождению источниками.
Мир ольвиополитов не ограничивался стенами их родного города, как не ограничивался он и рубежами его хоры. Он простирался далеко за пределы Ольвийского полиса вглубь Скифии вплоть до отдаленнейших нескифских земель. Об этом мире повседневной практической, торговой и познавательной деятельности ольвиополитов мы знаем немного, прежде всего, по тем сведениям, которые собрали, записали и благодаря Геродоту сохранили до нашего времени ольвийские купцы и путешественники. Некоторое представление о масштабах их деятельности дает распространение античного, в первую очередь, ольвийского импорта, который маркировал направления древних торговых путей. Именно по ним шла широкая диффузия достижений античной цивилизации в варварский мир на юге Восточной Европы.
Сейчас появляется все больше свидетельств, что именно этот эллинский мир не только придал определенную окраску культуре Скифии и особенно субкультуре ее военно-аристократической верхушки, но во многом сформировал литературные «образы» скифов и их соседей. Здесь не место рассматривать вопрос о степени их соответствия скифским историко-этнографическим реалиям. Но, очевидно, что не будь последних, этногеография Скифии, реконструируемая только средствами археологии, выглядела бы совсем иной, во всяком случае, намного беднее, чем ее видели современники-греки. И в этом заслуга не только автора «Скифского логоса», но, в первую очередь, тех весьма многочисленных его информаторов, из которых до нас дошло только имя Тимна -эпитропа скифского царя Ариапифа (Herod.: IV. 76).
По единодушному мнению исследователей, основная информация Геродота о Скифии шла из Ольвии. По-видимому, для Галикарнассца Гавань борисфенитов играла ту же роль, что и Вавилон при его путешествии по Передней Азии или Мемфис в Египте . Геродот принимает Ольвию за исходную точку, по отношению к которой он определяет местоположение различных скифских племен (IV. 17). Не останавливаясь здесь на сложном и во многом еще не решенном вопросе о мере автопсии «Отца истории» в Северном Причерноморье, обратим внимание на одну интересную закономерность в описании племен, обитавших по сторонам «Скифского квадрата» и за его пределами.
Как известно, этногеографический экскурс «Скифского логоса» составляют как бы четыре отдельных перечня этносов (IV. 17-26). Каждый из них представляет своего рода полосу земель, попавшую в поле зрения историка, начинающуюся от моря и уходящую «вверх», то есть вглубь материка:
1. По Гипанису (Южному Бугу);
2. К востоку от Борисфена (в Левобережье Днепра);
3. За р. Пантикап (Днепро-Доне кое междуречье);
4. За Танаисом (Левобережье Дона и далее на восток к Приуралью).
Они достаточно самостоятельны, но в целом неплохо согласуются между собой. В тоже время отмечу, что эти описания весьма существенно различаются не только числом упоминаемых в каждом перечне этносов (от 2 до 7), но также объемом и степенью оригинальности их этногеографических характеристик. Поэтому далеко не бесполезно установить, какие сведения Геродота заслуживают a priori большего, какие меньшего доверия, исходя, прежде всего, из самой природы источников, которые он использовал. Начнем с анализа последней и самой пространной «полосы народов» за Танаисом.
«Если перейти реку Танаис, то там уже не скифская земля, но вначале область савроматов, которые, начиная от самого дальнего угла озера Меотиды, населяют на расстоянии пятнадцати дней пути по направлению к северному ветру страну, лишенную и диких, и культурных деревьев. Выше их живут будины, занимающие другую область, всю поросшую разнообразным лесом. Выше будинов к северу идет сначала пустыня на расстоянии более семи дней пути. За пустыней, если отклониться в сторону восточного ветра, живут тиссагеты, племя многочисленное и особое; живут они охотой. Рядом с ними, в тех же самых местах, обитает племя, имя которому иирки. Они также живут охотой... Выше иирков, если отклониться к востоку, живут другие скифы, отложившиеся от царских скифов и по этой причине прибывшие в эту страну.
До страны этих скифов вся земля, уже описанная мной, представляет плодородную равнину, а дальше земля каменистая и неровная. Если пройти большое расстояние этой неровной страны, то у подножья высоких гор обитают люди, о которых говорят, что они все - и мужчины, а также женщины - плешивые от рождения, курносые и с большими подбородками... название этого народа - аргиппеи» (IV. 21-23).
Сейчас вряд ли у кого возникает сомнение в том, что в основе Геродотовой диатезы племен «за Танаисом» лежала древняя периэгеса - описание торгового пути из Гавани борисфенитов к приуральским аргиппеям и исседонам . Впрочем, на это указывает и сам Геродот, завершая его описание: «Вот до этих плешивых (т. е. аргиппеев —А. М.) о земле и о племенах, живущих перед ними, есть ясные сведения, так как до них добирается и кое-кто из скифов, у которых нетрудно разузнать, а также и у эллинов, как из гавани Борисфена, так и из других понтийских гаваней. А скифы, которые к ним прибывают, договариваются с помощью семи переводчиков, на семи языках» (IV. 24). Именно наличие надежного источника вроде периэгесы и связанных с ней устных рассказов торговцев, ходивших этим путем, позволило пытливому взгляду Геродота проникнуть глубоко внутрь практически неизвестного его современникам материка.
Некоторые исследователи не без оснований допускают возможность столь далеких путешествий не только скифских купцов, но и самих ольвийских греков и даже находят в их рассказах признаки автопсии в геродотовом описании аргиппеев, как известно, отличающемся этногеографической конкретностью (IV. 23). Здесь уместно напомнить, что филологический анализ указанной выше фразы о путешествиях к аргиппеям в одинаковой мере допускает два равноценных ее перевода, в том числе и такой: «не только некоторые из скифов, но и некоторые из эллинов ходят до земли плешивых» . М.В. Скржинская обратила внимание на то, что только грек мог сравнить размер местного дерева «понтик» с обычным для него фиговым, а плод его, из которого аргиппеи приготавливали свой напиток «асхи», с бобом, так как для скифов бобы и особенно фиги были чуждыми культурам. Судя по поэме Аристея Проконесского «Аримаспейя», эллинская мысль не исключала возможности таких далеких путешествий уже в архаическую эпоху, тем более, что их главной целью могло быть уральское золото. Археологические находки зеркал ольвийского типа, античных монет V - IV вв. до н. э. и свинцовых пломб с греческими надписями также дают определенные основания допускать, что эллинские купцы проходили весь путь до Урала.
В целом, изучение этногеографических описаний окраинных областей ойкумены в «Истории» Геродота демонстрирует одну любопытную закономерность. Он располагает более подробной и оригинальной информацией о тех народах, через земли которых проходили торговые пути. Это особенно заметно на материалах «Скифского логоса» (рис.22, а). Например, по течению р.Гипанис, служившей важнейшей торговой артерией западной части Скифии, Геродот знает четыре народа: каллипидов, ализонов, скифов-пахарей и невров (IV. 17). Даже о них Геродоту удалось собрать оригинальные этнографические сведения (IV. 105). Следует обратить внимание на то, что и здесь в качестве своих осведомителей он называет не только скифов, но и эллинов, которые живут в Скифии.
По интересующему нас пути, связанному с р. Танаис, также упоминается не менее четырех этносов: савроматов, будинов, тиссагетов и обитающих рядом с ними иирков (IV. 21 - 22). Причем два последних народа определенно локализуются уже в лесной зоне. В отличие от Борисфена (IV. 53) Геродот знает Танаис вплоть до его верховий в земле тиссагетов (IV. 123) . Кроме того, после поворота этого пути на восток, в сторону Приуралья, путешественнику известен еще ряд народов: «скифы отделившиеся», аргиппеи, исседоны. Весьма показательно, что за исключением «скифов отделившихся», в этом списке нет ни одного греческого псевдоэтнонима. Для сравнения укажу, что к северу от Скифии в междуречье Борисфена и Танаиса взгляд Геродота не проникал дальше ближайших соседей скифов андрофагов и меланхленов, обитавших намного ближе к Ольвии, нежели отдаленные затанаисские племена (IV. 18, 20). К тому же, в отличие от последних, получивших у Геродота более или менее пространные и весьма конкретные этнографические характеристики в соответствии с его главной творческой установкой рассказывать об «удивительном» , упоминания об андрофагах и меланхленах практически не содержат никакой оригинальной информации помимо той, которая заложена в самих этих псевдоэтнонимах (IV. 106 - 107), скорее всего сложившихся в местной греко-скифской среде .
В этом смысле весьма показательна характеристика андрофагов. По существу она негативна. Геродот называет не столько их реальные этнические черты, сколько обращает внимание читателя на отсутствие у них признаков привычной для греков «цивилизованности». В полном соответствии с названием андрофагов отличают «самые жестокие нравы из всех людей, они не почитают справедливости и не имеют никакого закона..., только они одни питаются человеческим мясом» (IV. 106). По представлениям Геродота, выше андрофагов никакого человеческого племени нет на всем известном ему протяжении (IV. 18). О меланхленах говорится также весьма скупо, по существу только то, что «они носят черные плащи, от которых они получили свое название, обычаи же у них скифские» (IV. 107). Как и в случае с андрофагами «выше меланхленов бо-лота и земля, безлюдная на всем известном нам протяжении» (IV. 20) .
Складывается впечатление, что сведения об этих двух племенах получены «отцом истории» из иных источников, нежели рассказы о савроматах, будинах и других этносах, земли которых пересекал торговый путь из Ольвии в Приуралье. По-видимому, у ольвиополитов не было прямых контактов ни с андрофагами, ни с меланхленами. К ним уже не доходили торговые караваны, о чем свидетельствует практически полное отсутствие греческого импорта в верховьях Днепра и Донца, где их обычно локализуют исследователи. Скорее всего, так могли рассказывать о своих северных соседях сами скифы в эпическом предании о войне с царем Дарием. Не меняет сути и возможность использования Геродотом «Землеописания» Гекатея Милетского, где впервые упоминаются меланхлены (F.Gr. Hist, fr.185). По-видимому, этот явно греческий псевдоэтноним восходит к местному скифскому названию «саудараты»(ос. saw-dar-a-ta - «одетые в черное»), известному по ольвийскому декрету в честь Протогена
То же самое следует сказать и о происхождении этнонима андрофагов, давно уже сопоставляемого с амадоками (и. a. amadaka - «едящие сырое мясо») из фрагмента «Скифской истории» Гелланика Митиленского (по St. Byz. fr. 170). Это отождествление становится еще более убедительным, если вспомнить «Амадокскую область» и «Ама-докское озеро», упомянутые Птолемеем в тех же самых местах, что и геродотовы андрофаги (Ptolem.: III. 5, 5). Весьма показательно и то, что такие названия обычно применялись эллинами к чуждым и диким племенам, обитающим на окраинах ойкумены .
Как представляется, изложенные выше наблюдения в известной мере объясняют неравноценность этнографической информации «отца истории» о ближних и дальних соседях скифов. При таком подходе становятся более понятными обширные лакуны и явные несообразности в этногеографии Лесостепной Скифии, в частности, отсутствие каких-либо упоминаний о гигантском городе Гелоне в левобережье Борисфена, если верно его отождествление с Вельским городищем на Ворскле . Видимо, Геродоту было известно, что этот деревянный город выстроен в земле «большого и многочисленного народа будинов» (IV. 108), восточную окраину которой только и пересекал торговый путь из Ольвии в Приуралье.
В заключение укажу, что отмеченная выше зависимость появления у греков новой этногеографической информации о населении юга Восточной Европы в связи с функционированием трансконтинентальных торговых путей прослеживается и в последующее время. К рубежу новой эры она уже вполне осознавалась античными авторами, в частности, Страбоном. Среди причин незнания его современниками верховий Танаиса он называет и такую: «кочевники, не вступающие в общение с другими народностями, и более многочисленные и могущественные, преградили доступ во все удобопроходимые места страны и в судоходной части реки» (IX. 2, 2). Но уже в I-II вв. ситуация на танаисском торговом пути радикальным образом изменилась. Он вновь начал активно функционировать. Поэтому весьма детальная, хотя и не во всем достоверная диатеза племен Европейской и Азиатской Сарматии Клавдия Птолемея, видимо, далеко не случайно совпадает по времени с новым импульсом античного, теперь уже римского импорта вверх по Дону. Как представляется, навстречу ему шел не только поток туземных товаров, особо интересовавших греков и римлян, но и новые сведения об обитателях глубинных областей Евразии.
Опубликованные в последние годы обобщающие археологические исследования позволяют в общих чертах реконструировать этнокультурную ситуацию, сложившуюся в Подонье к середине I тыс. до н. э. В отличие от племен, населявших этот регион в предшествующую эпоху бронзы и известных лишь по условным названиям археологических культур, у народов раннего железного века имеются не только этнонимы, но и весьма яркие этнографические характеристики. Другой вопрос, сколь они соответствуют исторической действительности? Я не разделяю скептического отношения некоторых маститых археологов к сообщениям античной традиции из-за неопределенности и ограниченности ее информации, не говоря уж о радикальных призывах пока отказаться от нее при интерпретации археологических материалов, тем более что и сами они вольно или невольно широко используют те же имена скифов, савроматов, саков и даже амазонок, дошедшие до нас лишь благодаря грекам и другим цивилизованным народам древности . При всей фрагментарности и скудости сведений древних авторов лишь они могут придать нашим археологическим реконструкциям определенную этнографическую и историческую конкретность. Не будь последних, картина расселения племен в Скифии, воссоздаваемая только средствами археологии, выглядела бы иначе, во всяком случае, намного беднее, чем ее видели древние греки. А, скорее всего, её и вовсе не было бы, как нет, например, этногеографии срубной культурно-исторической общности эпохи поздней бронзы, археологически изученной не хуже скифской или сарматской культур раннего железного века. Трудность состоит в том, что этнографические сведения далеко не всегда лежат на поверхности нарративного античного источника — они могут быть извлечены из его недр лишь в результате специального, весьма трудоемкого источниковедческого исследованиях .
Я отчасти разделяю пессимизм В. И. Гуляева по поводу напрасных ожиданий каких-то больших прорывов в истолковании письменных источников по этногеографии Скифии в ближайшее время, но не потому, что их возможности исчерпаны. Как кажется, проблема в другом - сейчас в России практически не осталось специалистов, прежде всего филологов-классиков, систематически и целенаправленно занимающихся исследованием и переводом на современном уровне текстов античных авторов, писавших о Скифии, скифах и их соседях. Тем не менее, это не означает, что скифологи должны проигнорировать тот огромный фонд сведений о Скифии, который сохранила античная традиция. Хотим мы того или нет, но информацией, почерпнутой из письменных источников, пользуются прямо или опосредованно все исследователи, в той или иной степени касавшиеся скифо-сарматской проблематики. Но весь вопрос в том, как ею пользоваться?
Здесь мы сталкиваемся с весьма сложной междисциплинарной проблемой сопоставления данных письменных и археологических источников, проблемой старой, но в последнее время приобретшей новое звучание прежде всего в силу все более глубокого осознания исследователями принципиальных различий в отражении этими источниками информации о прошлом. При всех имеющихся расхождениях в их взглядах они сформулировали ряд обязательных условий, выполнение которых необходимо для продуктивного сопоставления данных различных категорий источников по этногенезу и ранней этнической истории. Напомню главные из них:
1. Строгий учет специфики каждого из привлекаемых видов источников, во многом определяющей объем и качество содержащейся в них информации о древних народах.
2. Междисциплинарному синтезу должен предшествовать внутриотраслевой анализ каждого вида источников, а также основанных на нем реконструкции .
3. Сопоставлению подлежат не просто археологические данные и сведения, взятые из письменных источников, но обязательно конечные результаты независимого изучения первых и вторых.
4. Недопустимо прямое заимствование этнической номенклатуры или отдельных, вырванных из контекста сообщений античной традиции о древнем этносе без их всесторонней внешней и внутренней критики .
5. Поиск в разных группах источников информации об одних и тех же явлениях или событиях этнокультурной истории, «изоморфных точек» по терминологии Л.С. Клейна, передаваемой специфическим для каждого из них способом с последующим переводом сообщений, идентичных или близких по содержанию, но различных по своей кодовой природе .
6. Для успешной разработки интересующей нас тематики необходимо максимально расширить поле научного исследования, потому что проблемы этнической истории невозможно решать, не выходя за узкие рамки «своего» региона, так как этнос - прежде всего категория сравнительная. Этническое своеобразие определенной группы людей находило выражение через ее отличия в этнониме, языке, духовной и материальной культуре от других групп. Поэтому его можно заметить только при известной широте подхода, позволяющей охватить одним взглядом не только главный объект изучения, например, этническую ситуацию в Подонье в V - IV вв. до н.э., но и соседние этнокультурные образования, в нашем случае - их остатки в виде материальных памятников, объединенных в археологические культуры, локальные варианты и т.п.
7. Новая интерпретация имеет право на существование в науке, если она охватывает в единой непротиворечивой системе максимально большое число эмпирических фактов, добытых в результате анализа разных источников. В итоге при строгом выполнении этих требований вырабатывается не только более перспективная гипотеза, но иногда генерируется новое знание, которое невозможно было бы получить при изучении тех же источников порознь.
Разумеется, все вышеизложенное - лишь идеальная процедура исследования, к тому же предельно упрощенная и схематизированная. Но она накладывает на исследователей ряд серьезных ограничений, сводящих к минимуму субъективизм их построений, особенно на уровне исторической интерпретации фактического материала.
К началу XXI в. по проблеме этнической принадлежности населения Среднего Дона в скифское время накопилась обширная литература. Опираясь на археологические и письменные источники, одни исследователи размещали на этой территории геродотовых будинов , другие - так называемых «воронежских скифов» или просто скифов , третьи - «отложившихся скифов» , четвертые - меланхленов , пятые - тиссагетов и иирков , шестые - савроматов и сирматов . В итоге этот вопрос оказался настолько запутан, что сейчас представляется более актуальной не разработка очередной «оригинальной» авторской локализации, а взвешенный критический анализ имеющихся гипотез с привлечением максимально полного объема всех источников, а также современных наработок в области изучения древней этногеографии. Но для начала необходимо попытаться разобраться, в чем причина столь существенных расхождений в интерпретации одних и тех же археологических материалов и сообщений античных авторов? Только ли в скудности и противоречивости этногеографических сведений Геродота и других древних писателей?
Кажется, дело не столько в этом, сколько в самом отношении современных исследователей, в особенности коллег-археологов, к письменным источникам. Следует признать, что нередко они используют лишь часть информации, содержащейся у античного автора, которая не противоречит их построениям. Вопрос о степени ее достоверности в контексте особенностей мировоззрения и исследовательских приемов древнего автора обычно специально археологом не рассматривается. Если в «своих» источниках он довольно легко находит определенную ограниченную во времени и пространстве систему в виде археологических культур, вариантов, локальных групп памятников, то такого же системного подхода практически не наблюдается при его обращении к данным письменной традиции. Из нее зачастую вырываются лишь подходящие фрагменты или отдельные, лежащие на поверхности свидетельства. Между тем, и у античных авторов в ряде случаев содержится весьма упорядоченная информация, в том числе и этногеографического характера, в которой также можно обнаружить определенную систему или, во всяком случае, некий «каркас», отражающий этногеографические представления автора и его современников. Кажется, впервые в скифологии такой подход был продекларирован Б.А. Рыбаковым, хотя в своей собственной реконструкции этногеографии Скифии он неоднократно от него отступал.
Разумеется, уже чисто теоретически было бы наивным каждый раз ожидать сколь-нибудь полного совпадения этих двух систем информации этногеографического характера, поскольку нарративные и археологические источники в лучшем случае отражают разные стороны одного и того же явления, к тому же первые - весьма избирательно, а вторые — всегда фрагментарно. Тем не менее, по моему убеждению, только последовательное сопоставление тех и других именно как систем позволит реконструировать некую объективную канву для воссоздания этногеографии Скифии и, в частности, той ситуации, которая сложилась в бассейне Дона в середине I тыс. до н.э.
Коротко остановимся на археологическом аспекте обсуждаемой проблемы, тем более, что в статье В.И. Гуляева, положившей начало дискуссии, культурная ситуация в лесостепном Подонье в скифское время описана далеко не полно. У исследователей не вызывает сомнений наличие здесь не только курганных могильников, которые В.И. Гуляев уверенно называет скифскими, но и других групп памятников. В частности, верховья Дона и Воронежа были заняты небольшими по площади поселениями (известно свыше 100) и городищами (не менее 10) городецкой культуры, которые составили здесь особый локальный вариант. В свете имеющихся на сегодняшний день данных Городецкие племена были, прежде всего охотниками и рыболовами. Южнее, на Среднем Дону и Подворонежье в V - IV вв. до н. э. ситуация оказалась гораздо более сложной, что нашло отражение и в археологических материалах. Сейчас здесь известно не менее 60 скифоидных городищ, свыше 300 поселений и семь курганных могильников . Используя методы пространственного анализа, в Правобережье Среднего Дона удалось выявить около десятка локальных микрорайонов памятников скифского времени. Многие из них имели довольно устойчивую внутреннюю структуру в пределах бассейна малой реки, основными звеньями которой являлись городища, соединенные цепочкой неукрепленных поселений. Иногда в них входили и курганные могильники, располагавшиеся, правда, всегда обособленно от ближайших городищ. Комплексный сравнительный анализ среднедонских памятников свидетельствует в пользу существования здесь в скифское время двух хозяйственно-культурных типов (ХКТ):
- ХКТ оседлых лесостепных земледельцев и скотоводов, оставивших городища и поселения с выраженным культурным слоем.
- ХКТ подвижных скотоводов, по существу полукочевников, которым принадлежали среднедонские курганные могильники и большинство сезонных стоянок.
Оба типа памятников не имеют местных корней. Они распространяются на Среднем Дону и в Подворонежье с VI в. до н. э., причем, скорее всего, городища сооружаются несколько раньше, чем курганные некрополи. Первые захоронения в Частых (к. 8 с парой бронзовых жертвенных ножей) и Мастюгинских (к. 29/21 с греческой бронзовой гидрией первой половины V в. до н. э.) могильниках нельзя датировать ранее рубежа VI - V вв. до н. э. И тот, и другой тип среднедонских памятников обнаруживают истоки в лесостепной скифоидной культуре Украины VII - VI вв. до н. э., более всего в Днепровском Левобережье, о чем я и мои воронежские коллеги неоднократно писали с конца 80-х годов . На мой взгляд, в материальной культуре обитателей среднедонских городищ и населения, оставившего воронежские курганы, просматриваются явные различия как социального, так и этнокультурного характера. Их сравнительный анализ свидетельствует о сосуществовании на Среднем Дону и прилегающих районах Подворонежья двух различных социо- , а, возможно, и этнокультурных комплексов: низовой культуры рядового населения городищ и элитарной субкультуры военно-аристократической верхушки, погребаемой в курганах. Вероятно, она со временем составила здесь своего рода властвующую элиту, судя по обилию импорта и других дорогих изделий, процветавшую за счет эксплуатации основной массы зависимого оседлого населения городищ. Так выглядит историко-культурная ситуация на Среднем Дону, реконструируемая средствами археологии.
Однако сколь бы детально и изощренно мы не изучали археологические источники, в них самих все-таки не найти прямой информации, указывающей на этнос оставившего их населения. Для решения дискуссионной проблемы необходимо выйти за рамки собственно археологического источника и обратиться к анализу античной традиции.
Основным и по существу единственным оригинальным письменным источником по истории Среднего Дона в середине I тыс. до н. э. является «Скифский логос» Геродота. Сейчас ни у кого из исследователей не вызывает сомнений сложный, а местами противоречивый характер этого сочинения, так как Геродот соединил в нем и более раннюю ионийскую традицию, и картину расселения современных ему племен, и обширный фольклорный материал, полученный от скифов и других народов . Специальные исследования выявляют различные, в том числе, весьма далекие от требований современной науки мотивации, которыми руководствовался «отец истории» при отборе и подаче материала . Здесь не место рассматривать все вопросы этой ключевой для древней истории Юга Восточной Европы источниковедческой проблемы. Важнее еще раз обратить внимание на те ее аспекты, без учета которых невозможно научно реконструировать историческую географию Подонья в античное время. В первую очередь должны быть проанализированы те данные, которые можно использовать в качестве своего рода географических реперов при локализации этносов, проживавших во времена Геродота к востоку и северо-востоку от Скифии.
Прежде всего, это вопрос об идентификации р. Танаис. После выхода в свет книги Б. А. Рыбакова заметно возросло число сторонников отождествления геродотова Танаиса не с р. Дон, а с Северским Донцом и низовьями Дона . Однако проведенная проверка географических данных Геродота и Птолемея об этой реке подтвердила правомерность его традиционной идентификации скорее с Доном, нежели с Северским Донцом и нижним течением Дона. Поэтому можно использовать эту реку в качестве вполне надежного географического ориентира при локализации тех или иных древних народов.
Как известно, этногеографический экскурс «Скифского логоса» образуют четыре отдельных перечня этносов (Herod.: IV. 17 - 26). Каждый из них представляет полосу земель, попавшую в поле зрения автора, которая начинается от моря и уходит «вверх», т. е. вглубь материка:
- по Гипанису (Южному Бугу);
- к востоку от Борисфена (Левобережье Днепра);
- за р. Пантикап (Днепро-Донское междуречье);
- за Танаисом (Левобережье Дона и далее на восток к Приуралью .
Они вполне самостоятельны, но в целом не так уж плохо согласуются между собой. Для нашей темы особый интерес представляет последняя четвертая «полоса земель» за Танаисом, наиболее полно отражающая географические и этнографические представления «отца истории» о восточных пределах Скифии и ее обитателях. Обратимся к источнику.
«Если перейти реку Танаис, то там уже не скифская земля, но вначале область савроматов, которые, начиная от самого дальнего угла озера Меотиды, населяют на расстоянии пятнадцати дней пути по направлению к северному ветру страну, лишенную и диких, и культурных деревьев. Выше их живут будины, занимающие другую область, всю поросшую разнообразным лесом. Выше будинов к северу идет сначала пустыня на расстоянии более семи дней пути. За пустыней, если отклониться в сторону восточного ветра, живут тиссагеты, племя многочисленное и особое; живут они охотой. [2] Рядом с ними в тех же самых местах обитает племя, имя которому иир-ки. Они также живут охотой... [3] Выше иирков, если отклониться к востоку, живут другие скифы, отложившиеся от царских скифов и по этой причине прибывшие в эту страну» (Herod.: IV. 21 - 22).
Давно уже установлено, что в основе геродотовой диатезы племен "за Танаисом" лежало древнее описание торгового пути из гавани борисфенитов к приуральским аргиппеям и исседонам . На это прямо указывал и сам Геродот, завершая его описание: «Вот до этих плешивых (т.е. аргиппеев - A.M.) о земле и о племенах, живущих перед ними, есть ясные сведения, так как до них добирается и кое-кто из скифов, у которых нетрудно разузнать, а также и у эллинов, как из гавани Борисфена, так и из других понтийских гаваней. А скифы, которые к ним прибывают, договариваются с помощью семи переводчиков, на семи языках» (Herod.: IV. 24). Именно наличие вполне надежного источника вроде периэгесы и связанных с ней устных рассказов торговцев, ходивших этим путем, позволило пытливому взгляду Геродота проникнуть далеко вглубь материка (рис.22, а). В целом, изучение этногеографических описаний окраинных областей ойкумены в «Истории» Геродота демонстрирует одну любопытную закономерность: он располагал более достоверной и оригинальной информацией о тех народах, через земли которых проходили торговые пути . Именно по ним в направлении, обратном движению греческих товаров, шли не только золото и пушнина, но и конкретные сведения об отдаленнейших областях ойкумены.
Таким образом, характер основного источника сведений Геродота о расселении народов, живущих к востоку и северо-востоку от Скифии, существенно повышает доверие к содержащейся в нем этногеографической информации. У нас имеется редкая возможность проверить степень достоверности сообщений «отца истории» о размещении народов на танаисском участке торгового пути по независимым данным археологии. В его пользу, безусловно, свидетельствует наличие в Подонье трех сильно различающихся археологических культур скифского времени - савроматской, среднедонской и Городецкой. Важно то, что их последовательность точно соответствует трем большим этносам, упомянутым Геродотом: савроматам в степях за Танаисом; буди-нам в его среднем лесостепном течении; и, наконец, тиссагетам в его верховьях. После открытия на Верхнем Дону многочисленных городецких поселений, вероятнее всего, оставленных тиссагетами, важным представляется еще одно свидетельство «отца истории» о том, что из их земли берут начало четыре большие реки, в том числе и Танаис (Herod.: IV. 123).
Как видим, принципиальное совпадение данных двух различных видов источников делает более чем проблематичным локализацию скифов на Среднем Дону, на чем так настаивает В. И. Гуляев и его коллеги в работах начиная с середины 90-х годов . Здесь они никогда и никем не упоминались. Замечу, что не может служить аргументом в пользу доказательства обитания скифов в среднедонском регионе и явно вырванное из контекста свидетельство «отца истории» о том, что часть владений «скифов царских» доходит до реки Танаиса (Herod.: IV. 20). До сих пор ни у кого из скифологов не вызывало сомнений то, что в этом пассаже речь идет о восточных границах кочевий «скифов царских», которые включали Степной Крым и Северо-Западное Приазовье вплоть до низовий Танаиса-Дона. Последнее находит подтверждение в археологических материалах дельты Дона, в особенности, Елизаветовского городища и курганного могильника, где исследован знаменитый скифский курган «Пять Братьев», действительно по ряду показателей близкий грандиозным степным усыпальницам скифских царей . Но ничего подобного севернее дельты Дона и тем более на Среднем Дону пока неизвестно.
Помимо только что рассмотренной диатезы племен «за Танаисом» Геродот дает нам еще одну возможность проверить достоверность его представлений о расселении соседей скифов, обитающих по северной и восточной сторонам «Скифского квадрата» (рис.22, б).

Среди них скорее всего были упомянуты и древние народы лесостепного Подонья. Вопрос об источниках этой информации до сих пор остается открытым. В рассказе о «Скифском тетрагоне» большинство антиковедов видят отражение географических представлений самого Геродота или его предшественников, возможно, восходящих к ионийской карте Скифии . Недавно в пользу греческих истоков «Скифского квадрата» определенно высказался СР. Тохтасьев. Другой подход к решению этого вопроса предложил Д.С. Раевский. На мой взгляд, ему удалось весьма убедительно показать фольклорную, эпическую природу значительной части «Скифского логоса».
По его мнению, геродотово описание «Скифского квадрата» скорее всего восходит к представлениям самих скифов о географии их страны и племенном окружении. Оно отражает своего рода скифскую модель мира.
Однако как бы мы сейчас не решали этот вопрос - в пользу античной «теоретической» (в изначальном значении слова) или «фольклорной» (в духе Д.С. Раевского) природы этногеографии «Скифского квадрата» — обращает на себя внимание исключительно устойчивая последовательность Геродота в перечислении племен, обитавших по его сторонам (IV. 100, 102 - ПО, 119, 123 - 125). Важно то, что историк всегда строго выдерживал порядок их названий даже при обратном перечислении с востока на запад, как, например, при описании хода военных действий в кульминационный период Скифо-персидской войны (Herod. IV. 123 - 125). Поэтому со времен Н.И. Надеждина, который первым из ученых обратил внимание на эту повторяемость, она служит своего рода лакмусовой бумажкой при проверке истинности размещения исследователями этносов по сторонам «Скифского квадрата» .
Таким образом, при разработке вопросов этнической географии Подонья в скифское время есть возможность использовать несколько независимых систем этногеогра-фической информации о периферийных племенах, в определенной мере упорядоченной самими древними, а также данные современной археологии:
- Диатезу народов по Танаису, начиная от «самого дальнего угла озера Меотиды» вверх по реке и далее на «северо-восток», взятую из античной торговой периэгесы.
- Перечень народов вдоль северной стороны «Скифского квадрата», особенно у его северо-восточного угла, скорее всего восходящий к мифопоэтическим представлениям самих скифов о их стране и ее окружении.
- Картографирование разнокультурных археологических памятников Подонья и смежных регионов Степной и Лесостепной Скифии.
Все они содержат ценную этногеографическую информацию, относящуюся к областям, прилегающим к северо-восточному «углу» Скифии. Принципиально важно то, что их взаимное наложение до минимума сужает диапазон поиска тех этнонимов, под которыми Геродот мог знать современное ему население по среднему и верхнему течению Танаиса. А здесь он постоянно упоминает лишь «большой и многочисленный народ будинов» вместе с переселившимися к ним гелонами (IV. 21, 108 - 109, 123), а «выше» -охотников-тиссагетов и их лесных соседей-иирков (IV. 22, 123). Скорее всего, именно эти народы и обитали на Среднем и Верхнем Дону в скифское время.
Если последовательно придерживаться этнонимии Геродота и неплохо изученных археологами культурных индикаторов «геродотовых скифов» Причерноморья (а других скифов для этого времени археологи достоверно не знают), то не остается сколь-нибудь серьезных научных оснований распространять их владения вплоть до современного Воронежа. По моим наблюдениям, скифы время от времени «появлялись» на Среднем Дону в работах тех ученых, которое или не различали два значения этого этникона в античной традиции и, соответственно в современной науке, или в силу разных причин недостаточно учитывали специфику местных памятников. Я уже обращал внимание на то, что блеск находок из воронежских курганов часто настолько застилал зрение археологов, что они становились невосприимчивыми к подчас неброским проявлениям действительной этнокультурной специфики этого населения. К сожалению, новым подтверждением этой оценки, высказанной десять лет назад, служат последние публикации В. И. Гуляева, включая и статью, положившую начало настоящей дискуссии . Он постоянно акцентирует внимание читателя на сходстве, иногда вплоть до идентичности некоторых категорий инвентаря (серебряные сосуды, мечи с золотыми накладками, женские золотые украшения, золотые нашивные бляшки и т.п.) из воронежских курганов, с одной стороны, и Степной Скифии IV в. до н.э., с другой. Сходство это несомненно, на что обращалось внимание и ранее, в том числе и мною. Но практически все перечисленные категории погребального инвентаря для Среднего Дона являются импортом. Они характеризуют культуру местной военно-аристократической верхушки, которая, как и всякая элитарная культура носила синкретический характер, но никак не ее этнос.
Явным преувеличением является утверждение В.И. Гуляева «о полном совпадении и единстве субкультуры аристократической верхушки всех областей степи и лесостепи, входивших в состав скифского государственного объединения» . Это заключение противоречит итоговым выводам скифологов, издавших не так давно фундаментальный том по скифо-сарматской археологии в академической серии «Археология СССР». В нем убедительно показаны существенные различия в обряде и инвентаре курганов Степной и Лесостепной Скифии, особенно в V - IV вв. до н. э., а также ее отдельных локальных вариантов. Так, при несомненной близости части сопровождающего инвентаря среднедонские курганы в целом во многом отличаются от синхронных скифских степных. Достаточно напомнить один хорошо известный факт - основным типом погребальных сооружений собственно причерноморских скифов в это время становятся катакомбы, тогда как в лесостепном Подонье на протяжении скифской эпохи и, что особенно важно, всего IV в. до н.э. захоронения по-прежнему совершались в столбовых склепах, дромосных гробницах, реже простых грунтовых ямах. Да и их инвентарь, несомненно, обладает локальной спецификой по сравнению со скифским степным, на что давно обратил внимание П.Д. Либеров. Назову только некоторые массовые археологические проявления культурного своеобразия той части среднедонского населения, которая оставила курганные некрополи типа Частых и Мастюгинских курганов. Прежде всего, это местные формы керамики («ритуальные сосудики» с парными проколами под венчиком, вазы), литые бронзовые котлы скифского типа, но с «усами», своеобразие в вооружении (некоторые оригинальные типы акинаков, обилие находок наконечников дротиков с рюмковидными втоками, железные втульчатые двулопастные наконечники стрел), зооморфные поясные крючки, наконец, среднедонской вариант звериного стиля и др.
Все это не позволяет мне принять предположение В.И. Гуляева о погребениях в воронежских курганах правителей-номархов, происходящих из правящего рода господствующего племени скифов. Оно имеет крайне шаткое основание, составленное лишь из находок в самых богатых курганах престижных золотых и серебряных вещей явно импортного происхождения. Если даже допустить, что таковые скифские наместники на Среднем Дону все-таки были, то становится непонятно, почему их хоронили здесь не по «отеческому» обряду, принятому в метрополии, у «скифов царских». Возможно, последнее слово в нашей дискуссии смогут сказать антропологи, если им удастся доказать несомненную краниологическую близость населения Среднего Дона причерноморским скифам.
Замечу также, что в скифской гипотезе В.И. Гуляева не осталось места для наиболее многочисленной категории скифоидных памятников Среднего и Верхнего Подонья. Это городища и открытые поселения, синхронные воронежским курганам. Именно на них проживала подавляющая часть лесостепного населения. Что это было за населние? Какова могла быть его этническая принадлежность? В каких отношениях оно находилось с людьми, погребенными в среднедонских курганах? Этих и других важных вопросов мы не найдем в статье, открывшей настоящую дискуссию. Развиваемая В. И. Гуляевым гипотеза о скифах на Среднем Дону как будто бы и должна была снять многие накопившиеся к исходу XX в. затруднения и противоречия в древней истории и археологии Донского региона. Но, кажется, этого не произошло. Не произошло, видимо, потому, что она, несмотря на новые яркие археологические материалы из могильника Терновое I - Колбино, не смогла охватить и тем более оставила без сколь-нибудь убедительного объяснения даже ту совокупность фактов, которые менее противоречиво укладывались в старую гипотезу П.Д. Либерова о будинах и родственных скифам гелонах на Среднем Дону. Но для меня она неприемлема не только потому, что противоречит известным фактам.
Возвращение к взглядам М.И. Ростовцева по существу лишает восточноевропейскую лесостепь какого-либо автохтонного населения, что и продемонстрировал В. И. Гуляев своей новой картой этногеографии Скифии. Ряд соседних со скифами народов, например, меланхлены, на ней были сдвинуты далеко к северу, на широту таких далеких «заскифских» этносов, как тиссагеты и иирки. В результате все Днепро-Донское междуречье к северу от Степной Скифии оказалось незаселенным, что находится в вопиющем противоречии с данными археологии (ворсклинская, посульская, северско-донецкая, сейминская группы лесостепной скифоидной культуры). И что особенно странно, на этой карте даже лесостепное Среднее Подонье, где более 40 лет работает В.И. Гуляев, занимает сплошное «белое» пятно!
Мне кажется, что современная скифология, несмотря на ряд нерешенных проблем, о которых речь пойдет ниже, обладает все-таки несколько большей «разрешающей способностью» в выделении этнически значимых компонентов в археологических культурах, нежели во времена М.И. Ростовцева и А. А. Спицына. Письменные свидетельства и данные археологии независимо друг от друга указывают на то, что сложившаяся здесь в эпоху Геродота этнокультурная ситуация была гораздо более сложной и уж во всяком случае не такой однозначной, чтобы всю ее без насилия над источниками можно было непротиворечиво описать при помощи старой гипотезы «скифы на Среднем Дону».
В заключение необходимо высказать несколько суждений частного характера. В.И. Гуляев не пожалел бумаги, обильно цитируя отрывки из моей последней книги, в особенности, из главы, где речь идет о моем понимании гелонов и будинов. На первый, поверхностный взгляд оно действительно противоречит их характеристике в тексте Геродота (IV. 108 - 109), прочитанном буквально, да еще и в русском переводе. Однако не нужно мне приписывать честь авторства гипотезы о принадлежности большинства лесостепных городищ Днепро-Донского междуречья «большому и многочисленному народу будинов». Ее творцом был выдающийся русский скифолог Б.Н. Граков, в равной мере владевший всей совокупностью археологических источников и прекрасно анализировавший на языке оригинала тексты античных авторов. Именно он обратил внимание на этимологию этнонима «будины» в «Этнике» Стефана Византийского. Из нее становится очевидным, что чужой для эллинов этноним BouSivoi воспринимался ими как производный сложносоставной от двух слов их родного языка: рои<; - «бык» и 6wso- «кочевать», «кружиться на телегах» (Steph. Byz. s. v. BonSTvoi). Б.Н. Граков остроумно предположил, что из этой явно ошибочной эллинской этимологии и могла родиться та «кочевническая» характеристика будинов, которую мы находим у Геродота, как известно, не знавшего ни одного языка кроме родного греческого.
Подобный «метод» добывания информации из этнонима «отец истории» практиковал весьма часто. Не так давно В.И. Абаев выявил яркий образец адаптации Геродотом (или его информаторами) скифского этнонима gauvarga - «почитающие скот» к нормам греческого языка. В результате одно из скифских скотоводческих племен превратилось в skythai georgoi, то есть в «скифов-земледельцев». Как известно, буквальное понимание этого псевдоэтнонима вступало в вопиющее противоречие с надежными и многочисленными данными скифской археологии - во времена Геродота в степном Левобережье Нижнего Днепра обитало лишь кочевое население, оставившее множество курганов без сколь-нибудь заметных следов оседлости, свойственной земледельцам. Вообще исследователи, занимающиеся изучением творчества «отца истории», давно обратили внимание на подобный способ добывания им информации из этнонима. Достаточно вспомнить предельно скупные описания андрофагов и меланхленов, практически не содержащие никаких иных сведений, помимо тех, которые заложены в самих этих псевдоэтнонимах (IV. 106 - 107). Видимо, то же самое следует сказать и о будинах - ничего конкретного о кочевом образе их жизни Геродот не сообщает.
Теперь несколько слов о гелонах и возможности их локализации на Среднем Дону. Как известно, у Геродота в разных местах «Скифского логоса» приведены две взаимоисключающие версии их происхождения и этноса, явно восходящие к разным источникам. В статье В.И. Гуляева приводится пространная цитата из моей книги, которая тут же сопоставляется с геродотовым описанием гелонов в IV. 109. После этого делается весьма суровый вывод «вопреки Геродоту, гелоны, по мнению воронежского ученого, никакого отношения к эллинам не имеют, на эллинском языке не говорят, земледелием и садоводством не занимаются...». Но здесь мой уважаемый оппонент опустил вторую версию происхождения гелонов, сообщаемую Геродотом в «понтийской» легенде о происхождении скифов (IV. 9-10), проанализированную в моей книге. Из нее явствует, что гелоны являлись потомками героя-эпонима Гелона - одного из братьев Скифа(пра-родителя скифов). Не вдаваясь сейчас в сложный вопрос о принадлежности этой легенды скифам, грекам или самим гелонам, обращаю внимание на то, что эта легенда, вопреки сообщению Геродота (IV. 108 - 109), прямо утверждала кровное родство гелонов со скифами. Весьма примечательно, что именно эта версия подкрепляется последующей античной традицией. Уже Аристотель сообщает следующее: «У скифов, называемых гелонами, водится редкое животное, называемое тарандом» (De mir. ausc: 30). Позже грекам и римлянам гелоны представлялись отнюдь не мирными хлебопашцами и садоводами, а воинственными конными воинами. Подобное понимание этноса гелонов как родственных скифам ираноязычных племен лесостепи мы находим у М.И. Артамонова, Б. А. Рыбакова, Б. А. Шрамко, Б.Н. Мозолевского и других ученых, серьезно занимавшихся гелоно-будинской проблемой. Такой подход к проблеме гелонов как к этносу, изначально родственному скифам, но все-таки особому, отделившемуся позволяет вполне логично объяснить и определенную близость инвентаря среднедонских курганов собственно скифским, и явные различия в типах их погребальных сооружений, и наличие в них очевидной локальной специфики, как, впрочем, и само местонахождение этих курганов именно в той области, где этот народ размещал Геродот. Если все же видеть в гелонах настоящих эллинов, то почти столетний поиск следов их пребывания в глубинных районах лесостепи (может быть, за исключением расположенного не так далеко от Ольвии Немировского городища) пока не дал сколь-нибудь определенных результатов.
Принадлежность среднедонских некрополей геродотовым гелонам дополнительно подтверждает и находка в кургане 3 группы Частых знаменитого серебряного сосуда. Как убедительно доказал Д.С. Раевский, одна из запечатленных на нем сцен — уход проигравшего состязание героя-эпонима Гелона, основной скифской этногонической легенды. Маловероятно, чтобы столь редкое изделие случайно оказалось в одном из курганов именно той области, куда, согласно рассказу «отца истории», переселились гелоны. Во всяком случае, эта находка дает основание утверждать, что местная аристократическая элита была не только знакома с основным скифским генеалогическим преданием, но, видимо, осознавала свою причастность к нему, скорее всего потому, что в нем фигурировал ее мифологической прародитель - Гелон.
При наличии у одного автора двух взаимоисключающих версий исследователь оказывается перед нелегким выбором, так как согласовать их невозможн
Уже более столетия назад на Среднем и Нижнем Дону были открыты первые курганы скифского времени. К настоящему времени в этих регионах выделены локальные группы памятников VI - нач. III вв. до н. э. Особенно интенсивно они стали изучаться в 50 - 90-е годы XX в. Сейчас степень их исследованности далеко не одинакова. В воронежских могильниках раскопано около 180 погребальных комплексов скифской эпохи (опубликованы практически все), в дельте Дона - свыше 240 (к сожалению, большинство неопубликовано), в низовьях Северского Донца - не более 10-ти (опубликовано 7). Такая вопиющая неравномерность доступного исследователям археологического материала не помешала им высказать ряд мнений, часто взаимоисключающих, о степени культурной близости средне- и нижнедонских курганных некрополей, а значит, и об их этнической принадлежности. Так, уже М. И.Ростовцев испытывал затруднения при отнесении воронежских курганов к одной из шести групп скифского времени, выделенных им по бассейнам рек. Исходя из этого географического принципа, он отнес их к Донской группе, хотя видел «больше родства не столько с группой около Танаида, сколько с Полтавской». А. А. Спицын включил Частые и Мастюгинские могильники в группу курганов «скифов пахарей», подчеркнув условность последнего названия. Г. В. Подгаецкий первым обратил внимание на различие в культуре среднедонских городищ и курганов. Последние он без какой-либо аргументации отнес к скифским. Также их оценивали С. Н. Замятин и А. Ф. Шоков, опубликовавший научно-популярную книжку, написанную преимущественно по материалам воронежских курганов .
Новый интерес к проблеме вызвало открытие И. И. Ляпушкиным в районе Донской излучины Карнауховского погребения. В 60 - 70-е годы прошлого века вопрос о его этнокультурной оценке стал камнем преткновения в дискуссии между К.Ф. Смирновым, П.Д. Либеровым и другими исследователями. Первый однозначно высказался в пользу савроматской принадлежности этого памятника. Второй привел ряд аргументов, указывавающих на близость Карнауховского погребения среднедонским могильникам IV в. до н. э. В специальной статье их попыталась опровергнуть М. Г. Мошкова, обратившая внимание на встречаемость вещей из Карнауховского комплекса в савроматских погребениях. Однако из публикаций названных исследователей видно, что для однозначной атрибуции этого памятника тогда явно не хватало данных, хотя, как кажется, его принадлежность сирматам была установлена верно. Так в археологии Дона появилась сирматская проблема.
Безусловно, новый мощный импульс к изучению донских древностей скифского времени дали археологические открытия Азово-Донецкой экспедиции в междуречье Дона и Северского Донца под руководством К. Ф. Смирнова и В. Е. Максименко. Осо-бено выразительные комплексы были исследованы в 1976 г. в Шолоховском и Сладковских курганах . Как представляется, именно эти открытия перевели изучение сирматской проблемы из области догадок и споров в чисто научную плоскость. В тоже время, материалы курганов из низовий Северского Донца вновь заставили исследователей вернуться к проблеме соотношения памятников скифского времени на Среднем и Нижнем Дону, а также к более частным, но не менее интересным вопросам об этнической принадлежности их создателей, о степени влияния нижнедонского степного населения на обитателей лесостепного Подонья и наоборот. В той или иной мере они нашли отражение в двух монографиях и целом ряде статей. В самые последние годы на Нижнем Дону начал изучаться еще один могильник того же круга, получивший весьма многообещающее название Частые курганы инвентаре его погребений были встречены отдельные вещи, вызывающие у его исследователей определенные ассоциации со среднедонскими.
Весьма поучительна эволюция взглядов авторов на проблему соотношения курганных могильников Среднего Дона и низовий Северского Донца. В последней монографии К.Ф. Смирнов указал несколько погребальных сооружений и инвентарей из памятников среднедонской культуры Воронежской области, аналогичных, на его взгляд, савроматским. Он рассматривал эти аналогии не только как свидетельство взаимопроникновения отдельных элементов материальной культуры и обряда савроматов и среднедонского населения, но допускал даже, что воинственные савроматы-сирматы проникали на север по Дону, подчиняя себе местное население. По мнению исследователя, такие могильники южной части среднедонской территории, как Мастюгинские и Дуровские, могли быть оставлены если не ираноязычными сирматами, то смешанным населением из местных аборигенов и ираноязычных пришельцев. Однако, как выяснилось позднее, представленные в книге К.Ф.Смирнова на рис.7 планы впускных погребений и глиняные сосуды из воронежских курганов относятся к более раннему, еще предскифскому времени а бронзовые и свинцовые литые колесики от уздечки отнюдь не являются специфической принадлежностью только савроматской культуры. Не менее часто они встречаются в Скифии, в особенности, в лесостепных курганах, на что уже обращалось внимание.
В.Е.Максименко одним из первых обратил внимание на сходство погребальных сооружений с деревянными конструкциями из низовий Северского Донца и Среднего Дона. Там же он нашел аналогии зооморфным крючкам, золотым и серебряным пластинам-накладкам на деревянные сосуды и зооморфно оформленным ручкам к ним из политического объединения ранних сарматов-сирматов . Правда, в последней монографии В.Е. Максименко вновь звучат более трезвые мысли лишь о сходстве курганов междуречья Северского Донца и Дона со среднедонскими памятниками скифского времени, о наличии общих элементов в предметах вооружения, конской сбруе и украшениях. Еще раньше, в 1990 г. С.Я. Лукьяшко также сделал весьма ответственное заключение о культурной принадлежности группы курганных погребений из междуречья
Дона и Северского Донца в его нижнем течении. По его утверждению, проведенный им анализ позволил считать ее южной группой памятников среднедонской культуры .
Наконец, в последние годы идею ростовских археологов о культурной близости двух локальных групп памятников на Среднем и Нижнем Дону активно поддержал В.И. Гуляев. В ряде статей он подчеркивал исключительную близость, если даже не идентичность среднедонских могильников и нижнедонских курганов типа Сладковских и у хут. Кащеевки. Ссылаясь на идейную поддержку ростовских коллег, В.И. Гуляев утверждает, что «признание глубокого родства (или единства) среднедонских и нижнедонских древностей V- IV вв. до н. э. кладет конец «будино-гелонской гипотезе). На мой взгляд, устраивать похороны этой гипотезе еще рано. Но об этом - в другом месте. В этой статье я не буду обращаться к этнической номенклатуре, восходящей к античным авторам. На данном этапе изученности проблемы гораздо продуктивнее провести сопоставление двух локальных групп памятников на конкретном археологическом материале, тем более, что помимо весьма насыщенных эмоциональными оборотами деклараций типа «оказались поразительно похожими», «круг доказательств замкнулся» никакой другой научной аргументации о исключительной степени близости культуры населения Среднего и Нижнего Дона в скифское время уважаемый столичный исследователь в общем-то и не привел .
В результате такого подхода к одним и тем же источникам в итоговых публикациях, включая последнюю дискуссию в ВДИ 2002-2003 гг., на Среднем Дону появляются то савроматы, то сирматы, то скифы, то амазонки. Кажется подобные выводы проистекают скорее из интуитивных, часто весьма поспешных оценок, нежели скрупулезного сопоставительного анализа средне- и нижнедонских групп памятников, выполненного на уровне требований современной археологической науки. В статье излагается первый опыт сравнительного исследования курганных могильников типа Частых и Мастюгин-ских на Среднем Дону и соответственно типа Шолоховского и Сладковских курганов в междуречье Дона и Северского Донца в его нижнем течении (рис.18). Их анализ проводился по единым археологическим параметрам, которые, по мнению большинства археологов, являются наиболее значимыми для выявления их этнокультурной специфики.

Сопоставление среднедонских и нижнедонских могильников начнем с анализа типов погребальных сооружений. По моим подсчетам на Среднем Дону преобладали деревянные каркасно-столбовые гробницы, иногда с дромосами различной длины (рис.19, 1, 3 - 6). В них было совершено свыше 60 % среднедонских погребений V - IV вв. до н. э . А в недавно исследованном В.И. Гуляевым и Е.И. Савченко и уже опубликованном могильнике Терновое I - Колбино I погребальных сооружений этого типа оказалось абсолютное большинство . Насколько мне известно, ни в одном из богатых курганов в низовьях Северского Донца подобных каркасно-столбовых склепов пока не встречено. Здесь захоронения совершались в вытянутых прямоугольных могилах с характерными нишами-подбоями (рис. 19, 9) или же чаще в больших подквадратных грунтовых ямах, в том числе, с дромосами (рис.19, 8, 10 - 12), но в отличие от лесостепи всегда без использования столбовых конструкций.

Попутно отмечу, что средне донские столбовые гробницы по размерам, форме и внутреннему устройству резко отличаются и от погребальных сооружений Елизаветовского могильника в дельте Дона. Здесь из 143 учтенных В.П.Копыловым комплексов лишь одна могила (к. 121, п.2 1981 г.) имела признаки каркасно-столбового интерьера. Остальные были совершены в простых прямоугольных грунтовых ямах, как правило, сильно вытянутых пропорций, а в элитарной группе «Пять Братьев» - в каменных гробницах.
Рассмотрим одну из самых массовых категорий погребального инвентаря в средне-и нижнедонских курганах Правобережья - лепную посуду местного производства, наиболее подходящую для выявления этнокультурной специфики археологических памятников (рис.20).

В курганных некрополях Среднего Дона заметно преобладание привозной круговой посуды, прежде всего амфор, над керамикой местного производства. Среди последней доминируют сосуды двух типов: 1. вазы и крупные кувшины; 2. сосудики с парными проколами под венчиком. Большие вазы - двуручные, одноручные и без ручек - хорошо вылеплены от руки, их внешняя поверхность тщательно подлощена (рис.20, 1-3). По числу находок (14 экземпляров из 12-ти погребений) вазы и кувшины уступают лишь греческим амфорам. Безусловно, именно они придают специфическую окраску средне донскому курганному керамическому комплексу. Широкое использование в погребениях лесостепного Подонья V-IV вв. до н.э. различных вазо- и кувшино-образных высокогорлых сосудов, видимо, отражает важную роль жидкой, прежде всего молочной пищи в рационе питания этой части среднедонского населения.
Керамический комплекс курганов типа Шолоховского и Сладковских имеет совсем иной состав. В нем преобладают лепные горшки с раздутым яйцевидным туловом (рис.20, 11, 12, 16). Эти формы характерные для савроматской посуды, в частности, Донского Левобережья . В курганах Среднедонского Правобережья такая посуда в V-IV вв. до н. э. совсем не встречается. Лишь в Левобережье Дона в одном из впускных погребений у с. Лосево найден небольшой сосудик с широким яйцевидным туловом . Встреченный вместе с ним обточенный кусок мела в форме яйца допускает савромат-скую культурную принадлежность этого не совсем обычного для нашего региона комплекса, но, повторяю, найден он уже в степном пограничье Донского Левобережья вне основной зоны распространения среднедонской культуры. Среди керамики из погребений классических воронежских могильников мне известен лишь один горшкообразный сосудик из погребения в 1-ом Колбинском кургане 1970 г. (рис.20, 9). Он обнаруживает практически полную аналогию в Шолоховском кургане (рис.20, УЗ). Остальные формы лепных горшков из курганных погребений на р.Быстрой (рис.20, 14 - 15) явно чужды среднедонской керамической традиции, как и невысокий кувшинообразный сосуд, недавно найденный в кургане 1 могильника Частые курганы II (рис.20,17).
Другая специфическая категория керамического инвентаря среднедонских курганов - небольшие чашечки на поддонах, на венчиках которых почти всегда имеется пара сквозных проколов (рис.20, 4 - 8). С легкой руки П.Д. Либерова за ними закрепилось название «ритуальных». Скорее же всего, это местный вариант светильников, применявшихся как в быту (их находки известны и на среднедонских городищах), так и в погребальном ритуале для освещения последнего пристанища усопшего. На такое назначение указывают следы закопченности на их внутренней поверхности и парные отверстия на венчике, явно служившие для подвешивания. В одном случае отмечено использование «ритуального сосудика» как вместилища белого вещества (Частые, к. 11). Не исключено и употребление некоторых из них в качестве курильниц. На Нижнем Дону находки, подобные средне донским «ритуальным сосудикам», не известны. Да и глиняные светильники, судя по материалам Елизаветовского городища, там имели совсем иную форму.
Помимо керамики существенные различия просматриваются в оформлении декора литых бронзовых котлов. На Среднем Дону абсолютно преобладают находки котлов скифского типа с полусферическим туловом, наиболее близкие сосудам из лесостепного Поднепровья, особенно Посулья . Как и большинство скифских, среднедонские котлы имеют вертикальные арочные ручки с тремя характерными выступами (рис.20, 10). На Нижнем же Дону, включая и курганы на р.Быстрой, встречались почти исключительно котлы с ручкой, украшенной одним выступом (рис.20, 18). Они найдены в Шолоховском кургане, к.25 Сладковк, а также в к. 1 могильника Частые курганы II. Они принадлежат первому типу нижнедонских котлов классификации В.И. Косяненко и B.C. Флерова.
Другое яркое отличие проявляется в декоре тулова котлов. Как известно, на Среднем Дону часто попадаются бронзовые котлы, украшенные под ручками рельефными усами или волютами (рис.20, 10). Три из четырех учтенных мною котлов из курганов в низовьях Северского Донца имели на тулове характерный рельефный волнообразный валик (рис.20, 18). Отклонения от орнаментальных традиций на Среднем и Нижнем Дону встречены по одному разу. В известном погребении у г. Азова находился котел среднедонского типа с ручкой, украшенной тремя выступами и с небольшими «усами». По-видимому, его попадание в нижнедонской комплекс далеко не случайно, так как вместе с ним встречены и другие вещи, весьма характерные для инвентаря среднедонских курганов. С другой стороны, в типично средне донском погребении из к. 20 у с.Ду-ровки найден бронзовый котел первого типа с одним выступом на ручках, одним - двумя рядами веревочки по середине тулова, но с характерными для Среднего Дона «усами» . На мой взгляд, эти единичные находки скорее свидетельствуют о связях между средне- и нижнедонской аристократией, нежели о близком родстве свойственных им «субкультур».
Обычно в силу более широкого распространения предметы вооружения обладают меньшей локальной спецификой. Однако сопоставление серий мечей, происходящих из сравниваемых групп памятников, свидетельствует, что даже в этой категории находок явно просматриваются разные культурные традиции (рис.21).

Из погребений средне-донских могильников мною учтено 16 экземпляров мечей (рис.21, 1 - 8). Несмотря на индивидуальные особенности декора рукоятей, большинство находок принадлежат 3-ему типу мечей классификации А.И.Мелюковой. Такие мечи характерны как для Степной, так и Лесостепной Скифии конца V - IV вв. до н. э. и редко встречаются за ее пределами. Из семи мечей, найденных в комплексах на р. Быстрой, лишь два экземпляра имеют признаки более простых скифских акинаков (рис.21, 18, 22). Остальные принадлежат разным вариантам мечей синдо-меотского типа (рис. 21, 16-17, 20-21). На Среднем Дону меч (рис.21, 8) и кинжал синдо-меотского типа встречены лишь в одном погребении кургана 15 у с. Дуровка . В тоже время, из среднедонских могильников происходят два длинных меча, обнаруживающих далекие приуральские аналогии. Меч с волютообразным навершием и почти прямым перекрестием из кургана 38 у с. Старо-животинное (рис.20, 6) принадлежит типу, известному у кочевников Южного Приуралья . Хорошо известный меч из кургана 7 у с. Русская Тростянка (рис.21, 7) очень близок роскошно оформленному экземпляру из Филипповки . Как представляется, обе эти находки отражают иное, широтное направление связей населения Среднего Подонья, более совпадающее с описанным Геродотом торговым путем в Приуралье.
Как и повсюду в скифо-савроматском мире, самым распространенным видом наступательного вооружения населения на Среднем и Нижнем Дону были лук и стрелы. И там, и тут широко употреблялись бронзовые втульчатые наконечники стрел скифских типов (рис.21, 11, 24 - 25), а также трехлопастные железные (рис.21, 12, 26), характерные для колчанных наборов населения Среднего и Нижнего Подонья, Кубани и «савроматов» Поволжья. В тоже время, еще раз следует напомнить о широком распространении в IV в. до н. э. на Среднем Дону железных втульчатых наконечников стрел с плоской двухлопастной головкой (рис.21, 13). Их учтено свыше 500 экз., что составляет не менее одной четверти всех найденных в среднедонских комплексах наконечников стрел. Для нижнедонских памятников этот тип наконечников совсем не характе-рен,хотя единичные находки известны (рис.21, 27). То же самое следует сказать о плоских железных наконечниках с черешком в виде раздвоенного ласточкина хвоста (рис.21, 75), в небольшом числе присутствующих в десятках лесостепных колчанных наборов.
Локальное своеобразие просматривается и в других элементах вооружения. Новые открытия на Среднем Дону еще более подтвердили правоту наблюдений А.И. Мелюковой и П.Д. Либерова о широком употреблении дротиков с железными рюмкообразными подтоками (рис.21, 9 - 10). Их найдено уже свыше 70 экз. На Нижнем Дону они использовались явно реже, да к тому же имели иную форму подтоков (рис.21, 23). Остальные элементы паноплии (железные наконечники копий, боевые топоры, пластинчатые панцири скифских типов) встречались как на Среднем, так и на Нижнем Дону.
Очень ценным источником для сравнительного анализа «курганных субкультур» на Среднем и Нижнем Дону могли бы стать изделия в зверином стиле. Однако из-за крайне малой репрезентативности таких находок в погребениях междуречья Нижнего Дона и Северского Донца (известно менее 20-ти экз. из 5 курганов, запечатлевших не более десятка «образов») полноценное стилистическое их сопоставление со среднедон-ским звериным стилем (161 «образ» из 56 погребальных комплексов) пока не возможно. Напомню лишь, что из курганов у Кащеевки и Сладковки (к.25) происходят зооморфные крючки, по стилю очень близкие среднедонским и прикамским. Скорее всего, они могли попасть на Нижний Дон в результате функционирования того же геродо-това торгового пути, о котором говорилось выше. В к 1 группы Частые II найдено девять предметов, на которых запечатлено шесть различных «образов» в зверином стиле, но, как кажется, ни одного специфически среднедонского. Совсем недавно Л.Ю Гончарова все же предприняла попытку такого сравнительного анализа. Ее вывод неутешителен - на Нижнем Дону в скифское время проживал какой-то иной, особый массив населения, для которого искусство звериного стиля было не столь характерно, как для населения, оставившего среднедонские курганы. И с этим выводом, видимо, пока следует согласиться.
Подводя итог нашему сопоставительному анализу, следует признать, что курганные некрополи Правобережья Среднего Дона, с одной стороны, и низовий Северского Донца, с другой, по ряду основных культурообразующих показателей обнаруживают больше различий, нежели сходства. Последнее в основном касается тех элементов обряда и материальной культуры, которые в той или иной мере были свойственны всему Скифо-савроматскому миру. Двадцать лет назад на это впервые обратила внимание М.Г.Мошкова в предисловии и в примечаниях к последней книге К.Ф.Смирнова . Другие общие элементы, относящиеся к престижной сфере культуры (зооморфные поясные крючки из Кащеевки и Сладковки, два синдо-меотских меча и котел «савроматского» типа из Дуровки, а также котел с «усами» из-под Азова), скорее всего, попадали в «чужие» могильники в результате торговых, культурных и политических связей военно-аристократической элиты двух смежных регионов. Но, как было показано выше, их находки буквально единичны. На мой взгляд, нет достаточных археологических данных, позволяющих говорить об особой близости курганных групп в Правобережье Среднего и Нижнего Дона и, тем более, о единстве их культуры. Во всяком случае, степень этой близости была не больше, чем с культурой Степной Скифии, но намного меньше, чем с Лесостепной.
Курганы в Правобережье Нижнего Дона выше впадения в него Северского Донца по единству места (правобережье нижнего течения Танаиса), времени (IV в. до н. э.) и культурного облика, в котором все-таки отчетливо просматриваются восточные савро-матские (в археологическом смысле) традиции, скорее всего не могли принадлежать никакому иному племени кроме сирматов Псевдо-Скилака и Эвдокса. В этом единодушны практически все современные отечественные исследователи. Не так давно к такому же заключению о локализации сирматов пришел известный исследователь античной географической традиции Дж. Гардинер-Гарден. Собственно скифские, меотские, среднедонские и прочие элементы в курганах на р. Быстрой проявляются, прежде всего, в их инвентаре, А он вкупе с типами и размерами погребальных сооружений явно указывает на элитарный характер субкультуры номадов, которые оставили эти захоронения. Как известно, степная аристократическая субкультура в силу своей социальной природы всегда имела в той или иной степени выраженный синкретический характер. Тем не менее, при всем синкретизме и широте распространения ряда ее элементов, и на Среднем Дону, и в низовьях Северского Донца достаточно отчетливо просматриваются различные исходные ядра этно-кулътурных комплексов тех социальных групп, которые оставили сопоставляемые археологические памятники. Они явно имеют различные истоки: в первом случае в более западных лесостепных областях Среднего Поднепровья, во втором - в восточных степных районах Поволжья и даже Приуралья.
В VIII-VII вв. до н.э. на Юге Восточной Европы наступает ранний железный век (РЖВ). В археологии начало этой эпохи ознаменовалось не только распространением оружия, а затем и орудий труда из нового материала - железа, но и появлением новых типов памятников в лесостепи - прежде всего городищ и курганов. Ни те, ни другие не были характерны для предшествующих лесостепных культур финальной бронзы. Их массовое сооружение, начиная примерно с VII-VI вв. до н.э., служит надежным индикатором каких-то радикальных социокультурных перемен в жизни лесостепных сообществ в самый начальный период РЖВ. Если появление в лесостепи сотен больших и малых городищ можно еще убедительно объяснить резко возросшей угрозой с юга, со стороны степи, где в это время начинают доминировать кочевники-киммерийцы, а затем и скифы, то массовое сооружение лесостепных курганов, которые вскоре образуют большие могильники, до сих пор представляет феномен, не нашедший однозначной научной интерпретации. Он усугубляется тем, что в архаическую эпоху собственно степные скифские курганы практически неизвестны.
У древних скотоводов Евразии к курганам было особое отношение. Так, в системе ценностей скифов, «отчие могилы» стояли на первом месте, и только угроза их разорения могла заставить номадов вступить в битву с персидским царем Дарием (Herod.: IV. 127). Уже одно это геродотово свидетельство убедительно показывает значимость курганных некрополей для их создателей, а значит, и для современных исследователей. В отличие от эпизодических и не всегда адэкватных сообщений античных авторов курганные ансамбли выгодно отличаются массовостью и широким хронологическим диапазоном существования. Они хранят богатейшую, во многом еще не востребованную информацию о тех этно-социальных образованиях, которые их оставили. Современные методы анализа археологических источников, в частности, погребальных памятников, позволяют весьма достоверно установить степень социальной дифференциации и масштабы политической организации древних степных и лесостепных социумов. По данным археологии можно уточнить и этнокультурную принадлежность групп населения, практиковавших в лесостепи курганный обряд захоронения, в частности, их отношения с оседлыми обитателями лесостепных городищ, а также с собственно скифами-кочевниками Северного Причерноморья.
Степные курганы неоднократно привлекались исследователями для изучения культуры, социального строя и государственной организации у скифов. А вот лесостепным некрополям VII - IV вв. до н.э. не так повезло, не смотря на то, что скифская археология началась с раскопок знаменитого Мельгуновского (Литого) кургана 1763 г., расположенного на юге Правобережной Днепровской лесостепи. В XIX - начале XX вв. в лесостепном Поднепровье, Побужье, Поднестровье А. А. Бобринским, ЕА. Зноско-Боровским, Д.Я. Самоквасовым, Н.Е. Бранденбургом и другими русскими и украинскими археологами были раскопаны сотни, если не тысячи курганов скифского време-ни . Некоторые из них по размерам насыпей, погребальных сооружений и богатству инвентаря явно были «царского» ранга (Перепятиха, Старшая Могила, Шумейко).
В самом начале XX в. были открыты могильники скифского времени на Среднем Дону - Мастюгинские и Частые курганы. Их яркие материалы сразу привлекли внимание ведущих исследователей. По сравнению с другими лесостепными некрополями в дореволюционный период было раскопано не так много воронежских курганов - вряд ли более 25 (ср.: только в Смеле Н.Е. Бранденбург исследовал не менее 500 курганов, в Посулье к началу XX в. было раскопано около 400 курганов). Ситуация радикально изменилась в советское время. В отличие от лесостепного Поднепровья, где за весь XX в. было раскопано совсем немного погребальных памятников интересующего нас времени, большинство среднедонских курганов было раскопано в 50 - 90-е годы XX в.
Асинхронность исследования основной массы лесостепных курганов в Поднепровье и Подонье сказалась на сохраности и полноте коллекций находок, их доступности современным исследователям, качестве публикаций материалов. Некоторые из них (посульские, правобережные днепровские, среднедонские) специально изучались на региональном уровне. Их материалы в той или иной степени опубликованы и довольно подробно описаны монографически. Несколько хуже дело обстоит с курганами Поворсклья . Лишь в самые последние годы наконец-то были изданы материалы из раскопок курганов в бассейне Северского Донца . В целом, качество источниковой базы по погребальным памятникам скифского времени Днепровского Правобережья, Посулья и Среднего Подонья сильно разниться. Если свыше 80% среднедонских курганов исследовались в наше время по современной методике с обязательной фиксацией на планах надмогильных и погребальных сооружений при непременной публикации их инвентаря по комплексам, то в Днепровском Право- и Левобережье основная масса интереснейших курганов раскопана в XIX - нач.ХХ в. «колодцами» и «глухими траншеями», как правило, без какой-либо документации, где даже сам состав вещевого комплекса того или иного погребения, если он сохранился до нашего времени, далеко не бесспорен. К тому же, если в Подонье основные некрополи изучались планомерно (Частые, Мастюгино, Дуровка, Терновое - исследованы практически полностью, Русская Тростянка, Стояново, Староживотинное - примерно наполовину), то в Посулье в первую очередь раскапывались наиболее заметные, а значит и перспективные, с точки зрения находчиков, насыпи. В первом случае имеющиеся в нашем распоряжении курганные материалы более полно и достоверно отражают демографический и социальный состав микропопуляций, их оставивших, тогда как во втором - более лакунарно с явной ассиметрией сохранившихся материалов в сторону социальной верхушки. Безусловно, это сильно затрудняет выполнение обобщающих, в том числе сравнительных исследований по курганным некрополям восточноевропейской лесостепи.
Между тем, эта проблема становится все более актуальной. Сам феномен больших, а иногда просто гигантских скоплений насыпей скифского времени в глубинных районах лесостепи до сих пор остается во многом еще непознанным. Автор поставил перед собой задачу попытаться провести его историографический анализ для того, чтобы очертить хотя бы некоторые контуры проблемы лесостепных курганных некрополей Днепро-Донского междуречья VII-IV вв. до н.э. Я убежден, что историческая интерпретация конечных результатов их комплексного археологического исследования в системе синхронных древностей степи (собственно скифские курганные некрополи) и лесостепи (городища) может пролить новый свет на один из самых «темных» периодов в истории Восточной Европы в древности.
Скифологи довольно давно обратили внимание на весьма парадоксальный факт появления в глубине лесостепи с VII в. до н. э. многочисленных курганных некрополей архаической скифской культуры при практически полном отсутствии таковых в Причерноморской Степи вплоть до V в. до н.э. Этот парадокс получал различное объяснение. Одни исследователи видели в лесостепных курганах могильники автохтонного земледельческого населения. В свое время А.А.Спицын условно назвал их курганами «скифов пахарей». К ним он отнес и среднедонские могильники, оставленные по его терминологии «ворнежскими скифами». Мысль о принадлежности курганных групп VII - IV вв. до н. э. отдельным родо-племенным образованиям лесостепных оседлых земледельцев и скотоводов, проживавших на ближайших городищах, высказывали многие археологи XX в. По их мнению, лесостепные племена, оставившие эти памятники, развивались по пути от «военной демократии» к «ранней государственности» . Однако тезис о «военной демократии» плохо увязывается с курганными материалами восточноевропейской лесостепи, которые скорее свидетельствуют о развитой социальной иерархии в обществах, их оставивших, о ярко выраженных отношениях господства и подчинения и т.п. Некоторые современные исследователи, на основе анализа курганных материалов, выделяют у лесостепных племен Днепро-Донского междуречья полный спектр погребений разных социальных статусов. Другие склоняются к мысли, что это преимущественно некрополи родо-племенной верхушки автохтонного населения. Так, в частности, рассматривает Посульские курганы В.Г.Петренко. Третьи интерпретировали их как сезонные некрополи кочевников-скифов, периодически проникавших вглубь лесостепи. В больших курганах Посулья, отличающихся повышенной концентрацией предметов вооружения и снаряжения боевого коня, усматривали специальные дружинные кладбища и даже архаический некрополь скифских царей в отдаленнейшей области Геррос, описанный Геродотом . В последних исследованиях В.Ю. Мурзин предложил рассматривать их как курганные могильники основного ядра скифских племен VI в. до н.э. - «скифов царских», закрепившихся на довольно длительное время в Днепровском лесостепном Левобережье после ухода с Северного Кавказа . Каждая из этих точек зрения имеет свои сильные и слабые стороны. Но, как правило, для их аргументации не в полной мере использовался комплексный сопоставительный анализ материалов курганов и ближайших к ним городищ, а также методы современной пространственной археологии. По убеждению автора, их применение позволит раскрыть некоторые существенные обстоятельства возникновения больших курганных некрополей в восточноевропейской лесостепи.
Для понимания феномена лесостепных курганов скифского времени, безусловно, заслуживает серьезного внимания хронологический и региональный аспекты проблемы. Давно уже установлено, что в различных районах лесостепи курганные некрополи появляются в разное время. К востоку от Днепра ранее всего курганный обряд захоронения, получает распространение на Ворскле. Со 2-ой половины VII в. до н.э. в нем уже налицо признаки слияния и глубокого взаимопроникновения двух изначально разнокультурных компонентов: местной земледельческой культуры, развивающей традиции чернолесской, и всаднической культуры ираноязычных номадов раннескифского облика. Да и позже в курганах на Средней Ворскле еще долго сохраняются черты обряда, восходящие к исконным земледельческим культам, например, кострища с сожженной пшеничной соломой и обугленными колосьями на перекрытии могил, глиняные модели культурных злаков в составе сопровождающего инвентаря и др. Я разделяю точку зрения исследователей, считающих, что процесс формирования ворсклинской курганной традиции начался в результате проникновения в лесостепь отдельных групп иранцев-номадов, покоривших часть местного населения и создавших здесь скотоводческо-земледельческое объединение под эгидой военно-кочевой знати. Однако лесостепной земледельческий субстрат оказался на Ворскле настолько многочисленным и устойчивым, что довольно быстро сумел растворить в своей среде многие степные элементы культуры номадов. Кроме того, на разнообразие и специфику обрядности курганных некрополей по среднему течению Ворсклы, особенно в окрестностях Вельского городища оказала сильнейшее влияние субкультура этого огромного формирующегося «протогорода», где смешивалось разноэтничное население с различными хозяйственными укладами.
В Посулье большие курганные могильники возникают со второй половине VII в. до н. э., сильно разрастаются в VI в. до н.э., доживая до финала скифской эпохи, причем, подавляющее число курганных комплексов датируется временем архаики. В них, пожалуй, как нигде в лесостепи, да и в степи, представлен практически весь раннескиф-ский комплекс, носителями которого изначально были воины-всадники, в том числе, судя по масштабам некоторых погребальных сооружений и инвентарю, очень знатные и могущественные. В отличие от Поворсклья в курганах Посулья местное лесостепное начало просматривается весьма слабо. Фактически оно исчерпывается присутствием в могилах некоторых форм лепной керамики, да изредка наличием среди мясной заупокойной пищи костных остатков свиньи. Как известно, скифы-кочевники свиней не разводили и в жертву не приносили (Herod.: IV, 63).
В лесостепном Подонье первые курганы скифского времени в могильниках типа Частых и Мастюгинских сооружаются лет на сто позже посульских - с конца VI в. до н. э. . По мнению автора, здесь курганный обычай захоронения появился не из степи, а из более западных лесостепных районов в результате расселения на Средний Дон части приднепровских воинов-скотоводов - потомков «старших» по терминологии С. А. Скорого, или «ранних» по терминологии Д.С. Раевского скифов . Истоки ядра его культуры, включая не только отдельные компоненты, но и целые блоки обнаруживаются в более ранних курганных некрополях Днепровского Право- и особенно Левобережья . Сейчас эту концепцию разделяют большинство скифологов, занимающихся проблематикой Среднего Дона. Можно считать установленным, что в воронежских курганах еще реже, чем на Суле встречаются элементы, характерные для материальной культуры местных среднедонских городищ V - IV вв. до н. э., о чем речь пойдет ниже.
Приведенные факты свидетельствуют не только о разновременности появления курганного обряда захоронения в различных регионах лесостепи, но и о разной мере участия местного оседло-земледельческого компонента в субкультуре населения, оставившего лесостепные курганы. Его присутствие максимально в самых ранних курганах бассейна Ворсклы, как, впрочем, и всего Правобережья, где еще долго сохраняются черты обряда, восходящие к местным земледельческим культам. Оно минимально на Суле, и практически не прослеживается на Среднем Дону. По-видимому, за этими различиями стоят разные «модели» взаимоотношений носителей курганного обряда захоронения с коренным населением лесостепи, постоянно проживавшем на городищах и неукрепленных поселениях. В отмеченном явлении можно видеть и постепенное нарастание признаков доминирования воинственных ираноязычных скотоводов в лесостепи, которые в отдельных ее регионах рано превратились во властвующую элиту. Если наша интерпретация верна, то скопления курганов на Суле, а позже и на Среднем Дону, насыщенные предметами вооружения, конского снаряжения, различными престижными изделиями, в том числе в «зверином стиле», маркируют территории, занятые отдельными потестарными образованиями типа сложных (на Дону) и даже суперсложных (на Суле) вождеств. Во главе них могли стоять те самые «цари» (или их потомки), которые перечисляются в составе участников знаменитого военного совета скифов и их союзников в самый напряженный момент войны с Дарием (Herod.: IV. 119).
Любопытный материал к размышлению о природе феномена лесостепных курганов дает пространственный анализ погребальных и бытовых памятников внутри отдельных микрорайонов. Его методика апробирована автором на материалах Среднего Дона . Она позволяет весьма надежно установить топографическое соотношение курганных могильников с ближайшими памятниками оседлости в каждом локальном варианте лесостепной скифоидной культуры, а также количественно оценить его людские и природные ресурсы, прежде всего, пастбища, которые могли использовать группы скотоводческого населения. Недавно С.С.Бессонова выссказала продуктивную гипотезу, что количество скифских курганов в лесостепных могильниках и степень их концентрации соответствует размерам равнинных лугово-степных пространств, а также удобным для выпаса скота поймам . Она подтверждается новейшими палеопочвенными данными по Посулью и Среднему Подонью. Исследование А.Л.Александровским погребенной почвы под одним из курганов раннескифского времени в правобережье Сулы показало, что он перекрывал древнюю степную почву при том, что к нашему времени его насыпь, как и многие посульские курганы, уже поросла дубом. Аналогичную картину выявили наши совместные с палеопочвоведом Ю.Г.Чендевым исследования стратиграфии насыпей в Староживотинном могильнике V - IV вв. до н.э., ныне целиком покрытом лесом .
Сам факт наличия в I тыс. до н.э. обширных степных пространств в глубине лесостепной зоны во многом объясняет феномен появления посульских, среднедонских и прочих скоплений курганных могильников с подчеркнуто всадническим инвентарем, возникших вне пределов Степной Скифии. Такие остепненные ландшафты позволяли местной военно-аристократической элите долго сохранять обычный для скотоводов подвижный образ жизни, если не кочевой, то полукочевой, по крайней мере, в теплое время года. Вопреки мнению некоторых исследователей подобный полукочевой уклад возможен в отдельных районах восточноевропейской лесостепи, для которых характерно мозаичное сочетание лесных «островов» и степных просторов. Его существование на Среднем Дону прямо отмечено письменными средневековыми источниками . Да и «геродотовы скифы», судя по остеологическому материалу, были скорее полукочевниками, нежели кочевниками в современном значении этого слова .
Проведенное автором выборочное исследование топографического соотношения курганных могильников и ближайших городищ показало, что в пределах Днепро-Донского междуречья этот показатель сильно варьирует во времени и пространстве. Как известно, Посулье отличается исключительно высокой концентрацией курганных некрополей. Некоторые из них насчитывают сотни насыпей. Причем, по целому ряду показателей самые большие курганы такие, как Старшая Могила у с. Аксютинцы (высота насыпи 21 м), у х. Шумейко (19 м) без натяжек можно отнести к разряду «царских».
Здесь же известно очень крупное Басовское городище площадью 87 га. В целом же, небольшое число (около 10) и общая площадь (менее 100 га) остальных укрепленных поселений посульской группы находятся в явном диссонансе с громадным количеством курганов в могильниках по среднему течению Сулы, на что уже исследователи не раз обращали внимание .
Наоборот, в соседнем Посеймье открыто более 50-ти небольших укрепленных поселений со скифоидным слоем VI - IV вв. до н.э.. В то же время, несмотря на интенсивные разведки и раскопки 70 - 90-х гг. прошлого века, до сих пор здесь не найдено ни одного синхронного им курганного или грунтового могильника скифского типа . В силу каких-то серьезных причин в Посеймье в скифское время не получил развития курганный обряд захоронения, хотя многие элементы скифской материальной культуры неплохо представлены среди находок в Курской области, особенно, случайных. Видимо, в силу более суровых зимних условий этот регион, как, впрочем, и Верхний Дон, в середине I тыс. до н.э. не подходил для жизни воинов и скотоводов, оставивших большинство лесостепных курганных групп. Значительная толщина снежного покрова делала здесь уже невозможной тебеневку - зимний выпас лошадей, не говоря уж о других домашних животных.
Если считать курганный обряд основным способом захоронения, то, явно «не соответствует» огромному Вельскому городищу даже курганный могильник Скоробор, накопивший за четыре столетия существования не менее 1000 насыпей, тогда как численность населения городища могла достигать 40 - 50 тысяч человек . Обычных же грунтовых могильников при лесостепных поселениях Днепро-Донского междуречья, где могли хоронить основную массу умерших рядовых обитателей, в это время, скорее всего, не было. В отличие от Днепровского лесостепного Правобережья, где исследовано несколько бескурганных могильников , в более восточных районах лесостепи обряды ингумации или кремации в грунте не получили распространения в начальный период железного века, как, впрочем, и у большинства лесных народов Восточной Европы.
В Лесостепном Подонье известны и городища (около 60-ти), и курганные могильники (не более 10-ти), насчитывающие до полусотни насыпей (раскопано около 180-ти погребений). Здесь лучше, чем в любом другом локальном варианте изучена внутренняя структура микрорайонов памятников по берегам малых рек. В нее обязательно входили городища (часто одно в низовьях, другое в верховьях), цепочка открытых неукрепленных поселений, включая сезонные кочевья, а также один, реже два курганных некрополя. Для среднедонского региона надежно установлено, что последние всегда возникали на некотором удалении от ближайшего городища. Более того, топографически они были разделены естественными препятствиями - реками, суходолами, балками. Такая подчеркнутая обособленность может свидетельствовать о принадлежности создателей курганов и обитателей городищ к различным по происхождению, культуре, ХКТ и социальному статусу группам населения. Последние антропологические исследования на Среднем Дону как будто бы подтверждают различия между оседлыми жителями городищ и людьми, погребенными в воронежских курганах, на физическом уровне. С этим наблюдением хорошо согласуется очевидное несовпадением массовых категорий погребального инвентаря среднедонских курганов, прежде всего, керамического и самых распространенных типов лепной посуды с соседних городищ. Отказ от употребления в ритуале среднедонских курганов обычных типов городищенской керамики местного производства, скорее всего, указывает на намеренное ее избегание людьми, которых погребались в курганных некорополях. Здесь чаще всего использовались сосуды для питья типа больших лепных «ваз» и кувшинов, а также греческие амфоры. Подобный набор керамического инвентаря более свойственен номадам, для которых характерно резкое увеличение в пищевом рационе доли жидких, в первую очередь молочных продуктов, а также такого престижного напитка, как вино. О сохранении на Среднем Дону скотоводческих традиций свидетельствует состав мясной заупокойной пищи (лошади - 48,6 %, к.р.с- 25,7 %, м.р.с. - 22,8 %, свинья - всего 2,8 %) при полном отсутствии в воронежских курганах каких-либо обрядов, свойственных земледельческому населению.
Явная территориальная обособленность городищ и курганных некрополей есть и в Посулье. В частности, самое крупное Басовское городище отделено от огромного курганного поля у с. Аксютинцы глубокой труднопроходимой балкой. Правда, в Посулье даже в богатых курганах почти всегда присутствовала грубая лепная керамика тех же типов, что и на городищах. Как и в других вариантах скифоидной культуры Днепровского Левобережья, здесь дело еще не дошло до такой степени отчуждения обитателей городищ и носителей «курганной субкультуры», как к концу скифской эпохи на Дону.
Еще более сложная и неоднозначная картина открывается на таком уникальном памятнике, как Вельское городище. Его главный курганный некрополь Скоробор также отделен от Большого городища долиной р. Сухая Грунь. Нет сомнений, что здесь хоронили какую-то часть обитателей Вельского городища. Однако в отличие от других памятников, в южной части Большого городища в пределах его укреплений располагалось еще несколько небольших курганных групп, в том числе, «Вельский курганный могильник Б». Раскопанные здесь насыпи дали захоронения воинов V - IV вв. до н. э. довольно высокого ранга, в одном случае сопровождаемое слугой. В последнее время в этой группе открыта скифская катакомба степного типа IV в. до н.э. (курган № З). Это еще раз подтверждает смешанный по этническому происхождению и сложный по хозяйственным укладам состав населения самого большого лесостепного городища. По-видимому, курганные некрополи Посулья, Поворсклья, Подонья отражают различные типы взаимоотношений пришлого, изначально скотоводческого степного, и автохтонного оседлого населения в скифское время - от высокой степени их миксации на Ворскле, в особенности в некрополях вокруг Вельского городища, до симбиоза при длительном сохранении между ними культурной и социальной изоляции, как мы видим это на Среднем Дону в V - IV вв. до н .э.
Сейчас практически ни у кого из исследователей не осталось сомнений, что под курганами в лесостепи в первую очередь погребалась местная властвующая элита и ее ближайшее окружение. Но каково ее конкретное происхождение, ясно далеко не во всех случаях. Кажется, последюю точку в дискуссиях смогут поставить сравнительные антропологические и палеогенетические исследования костных материалов из лесостепных и степных (достоверно скифских) курганов, а также из немногочисленных грунтовых могил и памятников массовой гибели рядовых обитателей городищ в конце скифской эпохи типа Семилукского городища.
Третье направление исследования лесостепных курганных некрополей - археолого-демографическое. Оно включает рассчеты вероятной численности оседлого населения, обитавшего на лесостепных городищах, с одной стороны, и людей, оставивших курганные могильники, с другой. Произведенные мною подсчеты по бытовым и погребальным памятникам лесостепного Подонья при всей их приблизительности, представляются весьма показательными. Оседлых обитателей городищ оказалось как минимум на порядок больше, нежели членов популяций, оставивших воронежские курганы. Полученные выводы предстоит верифицировать по материалам других локальных вариантов скифоидной культуры, прежде всего, посульскому.
Выполнение подобных исследований позволит подкрепить (или, наоборот, снять)недавно выдвинутую гипотезу , предлагающую рассматривать комплексы лесостепных памятников - городищ и больших курганных могильников, как материальное отражение существования и в лесостепи экзополитарного (или по новой терминологии Н.Н. Крадина, ксенократического — т.е. направленного на иноплеменников) способа производства, характерного для номадов, начиная с раннего железного века. При нем доминировали даннические и так называемые дистанционные (война, грабеж, вымогательство «подарков», «кормление») формы эксплуатации воинственными кочевниками оседло-земледельческого населения, то есть то, что этнологи называют «производством добычи». Знать и воины - носители субкультуры выраженного скифского облика -могли образовывать и в лесостепи нечто вроде властвующей «надстройки» над местным оседлоземледельческим «базисом» .
На мой взгляд, убедительным археологическим свидетельством существования в раннем железном веке именно такого «способа производства» служат уже упоминавшиеся большие, насыщенные предметами вооружения и конского снаряжения курганные могильники номадов (или бывших номадов) в лесостепи типа посульских или среднедонских. Они возникали внутри микрорайонов памятников оседлости по соседству с городищами, где постоянно проживало автохтонное земледельческо-скотоводческое население. Скорее всего, городища и курганные некрополи являлись материальным выражением двух основных лесостепных укладов - оседло-земледельческого и полукочевого скотоводческого, которые с момента подчинения номадами отдельных лесостепных районов составляли тесно взаимосвязанные, во многом вынужденные для коренного населения социально-экономические системы . Со временем из них могли развиться политии во главе с «царями» меланхленов, гелонов, будинов и прочих народов (Herod. IV. 119).
Как представляется, развиваемый в этой статье подход в перспективе позволит полнее понять глубинную природу лесостепной скифоидной (скифообразной) культуры Днепро-Донского междуречья. В самом ее названии «скифоидная» и «лесостепная» верно отражена ее этно- и хозяйственно-культурная двухкомпонентность, объективно обусловленная мозаичностью лесостепных вмещающих ландшафтов. Материальным отражением этого дуализма стали два основных типа памятников археологии VII-IV вв. до н.э. - лесостепные городища и курганные некрополи скифского (в археологическом смысле) облика. В тоже время, даже самый первый опыт их изучения под этим углом зрения выявил многие слабые стороны в археологии восточноевропейской лесостепи в ее нынешнем состоянии и, прежде всего, острый дефицит надежных эмпирических данных для выполнения заявленного в заголовке этой статьи историко-археологи-ческого исследований. Его затрудняет незначительное число полностью раскопанных по современной методике лесостепных курганных могильников, отсутствие достоверных сведений по их ландшафтному окружению в древности, хозяйственно-культурным типам, в особенности, о составе жертвенных животных в погребениях и т.п. Практически не проводятся сравнительные антропологические исследования человеческих останков из курганов и городищ. В силу этого сделанные в настоящей статье выводы носят самый предварительный характер и требуют дальнейшей проверки и уточнения на уровне конкретных сравнительных исследований материалов курганов и городищ по различным вариантам скифоидной культуры восточноевропейской лесостепи.
Впервые погребальные памятники скифского времени Среднего Подонья привлекли внимание исследователей еще в самом начале XX в., особенно после раскопок знаменитых Мастюгинских и Частых курганов под Воронежем. Несмотря на очень сильное ограбление эти могильники дали первоклассные погребальные комплексы, сразу же ставший объектом пристального изучения ведущих отечественных скифологов и антиковедов. Именно в результате их исследования М.И.Ростовцеву впервые удалось выделить из общей массы скифских древностей Юга России Воронежскую группу курганов .
Принципиально новый этап в изучении курганных некрополей скифского времени на Среднем Дону связан с целенаправленной, почти двадцатилетней деятельностью Лесостепной Скифской экспедиции И А АН СССР. В 50-60-е гг. под руководством П.Д. Либерова были доисследованы Частые и Мастюгинские курганы, чуть позже А.И. Пузиковой исследованы могильники у сел Русская Тростянка и Дуровка. Именно материалы этих курганных некополей составили основу Свода памятников скифского времени на Среднем Дону, альбома наиболее интересных находок VI—IV вв. до н.э , а затем и полного издания материалов воронежских курганов, раскопанных П.Д. Либеро-вым и А.И. Пузиковой.
Оба исследователя рассматривали курганные могильники и синхронные им городища как памятники, оставленные одним и тем же населением - среднедонскими племенами скифского времени. В 60-е - начале 70-х гг. такой подход был правомерен и не вызвал особых возражений. Однако последующее изучение бытовых памятников, особенно активизировавшееся в 80-е - начале 90-х гг., все более наглядно выявляло явную диспропорцию между относительно небольшой серией среднедонских курганных погребений и возрастающим с каждым годом количеством синхронных им городищ и неукрепленных поселений. После сплошного обследования Среднедонского Правобережья стало очевидно, что подавляющее число городищ не имело «своих» курганных некрополей. Последние обнаружили определенную территориальную связь лишь с отдельными микрорайонами памятников скифского времени, которых сейчас известно не менее десяти.
Эти наблюдения заставили автора заняться поисками новых подходов в изучении среднедонских памятников скифского времени. Один из них заключался в раздельном анализе материалов городищ и курганных могильников с последующим сопоставлением их результатов. Такой подход позволил не только выявить некоторые, ранее неизвестные черты среднедонской культуры скифского времени, но и, как представляется, глубже понять ее природу. Отмечу, что в последние годы в этом направлении успешно работает и В.Д. Березуцкий, посвятивший курганам Среднего Дона специальную работу.
Сейчас на территории лесостепного Подонья известно не менее семи больших курганных могильников скифского времени(рис.2). Пять из них находятся в Правобережье Среднего Дона (Мастюгино, Русская Тростянка, Дуровка, Ближнее Стояново, Терновое I), один на Верхнем Дону (Частые курганы) и еще один на р. Воронеж (Староживо-тинное). В них исследовано свыше 180 погребений конца VI — нач. III вв. до н.э. Проведенный пространственный макроанализ позволил установить определенные закономерности взаиморасположения курганов, городищ и поселений. Оказалось, что все курганные некрополи находились на значительном удалении (от 2,5 до 8 км) от ближайшего городища, но что еще более существенно - они всегда располагались на противоположных берегах рек или суходолов.
Большинство погребений в курганах Среднедонского Правобережья были основными и единственными (94 %). Над ними возводились насыпи относительно небольших размеров высотой обычно около 1 м, и только отдельные курганы превышали в высоту 2-3 м. В отличие от Правобережья в Левобережье Дона открыты лишь очень немногочисленные впускные захоронения, не образующие сколько-нибудь значительных могильников. В среднедонских курганах Правобережья выделяется четыре основных типа погребальных сооружении :
I тип — погребения в насыпи и на древнем горизонте (рис.8,16) - 8 %;
II тип — простые грунтовые могилы (рис.8,17)- 29%;
III тип — каркасно-столбовые склепы (рис.8, 18) - 50 %;
IV тип — каркасно-столбовые склепы с дромосами (рис.8, 19) - 13 %.

Таким образом, наиболее характерными типами среднедонских погребальных сооружений являлись столбовые гробницы, иногда с дромосами. Размеры многих из них многократно превышали площадь, необходимую для размещения погребенного(почти у половины - не менее 20 кв. м). Около четверти погребений содержали парные и коллективные захоронения. Оба основных типа сооружений не обнаруживают корней в погребальных памятниках предшествующей эпохи. Не вызывает сомнения тот факт, что они получают распространение с самого начала функционирования среднедонских курганных некрополей, то есть с конца VI - нач. V вв. до н.э. На мой взгляд, эти типы погребальных сооружений восходят к столбовым и дромосным могилам лесостепного днепровского Право- и Левобережья VII-V вв. до н.э., где им известны многочисленные аналогии (из новейших раскопок: Гладковщина, Васильевка и др.).
По-видимому, те же западные истоки имеет биритуализм среднедонских курганных погребений, среди которых не менее 10 % сожжений на месте. Как и в большинстве областей Скифского мира, погребенных хоронили вытянуто, на спине. Преобладали ориентировки головой в юго-западный (58,5 %) и северо-восточный (34 %) сектора. Использование матрицы-определителя сезонных ориентировок В. Ф. и В. В. Генингов показало, что, скорее всего, обе они являются сезонным зимним отклонением от распространенной в скифское время широтной ориентировки (рис.9).

По мнению большинства исследователей, возведение обширных деревянных столбовых усыпальниц требовало больших затрат труда и было связано с высоким социальным статусом погребенных. О неординарном характере большинства среднедонских курганных погребений свидетельствует богатый и разнообразный инвентарь (рис.8, 1-15). По числу находок преобладали предметы вооружения, встреченные в 90 из 120 погребальных комплексов (75 %). Их полный набор включал длинные мечи скифских, реже местных типов, наконечники копий и дротиков, их подтоки, бронзовые и железные наконечники стрел как широко распространенных скифских типов, так и местные железные двулопастные. Среднедонские курганы выделяются по частоте находок остатков защитного доспеха (20,8 % погребений). Среди них преобладают пластинчатые панцири, в двух курганах найдены греческие поножи. 43 % курганных погребений содержали различные детали снаряжения коня. Почти столько же захоронений имели в составе инвентаря изделия в зверином стиле. Бронзовые котлы скифского типа найдены в 18 % курганов. Как известно, у номадов котлы, помимо чисто утилитарной выполняли важную социальную функцию. Они служили символом единства коллектива, окружавшего вождя. На такое назначение скифских котлов, видимо, косвенно указывает известная легенда о скифском царе Арианте (Herod.: IV. 81). О высоком социальном статусе среднедонских курганных погребений свидетельствуют и многочисленные находки предметов и украшений, выполненных из драгоценных металлов (до 60 % захоронений), в том числе — золотые нашивные бляшки (30 %). В то же время, в них редко встречались орудия производства, и никогда - земледельческие орудия.
Весьма показателен состав керамического комплекса курганных погребений (рис.10).

В нем заметно преобладание привозной круговой посуды (33 экз.) над лепной (27 экз.). Среди первой доминируют античные амфоры (21,7 % среднедонских курганов). На втором месте по употреблению стоят местные аккуратно вылепленные от руки «вазы» и кувшины, на третьем - так называемые «ритуальные сосудики» с парными проколами на венчике. Обращает на себя внимание еще одна интересная особенность среднедонских курганов. В их погребениях практически отсутствовала местная посуда наиболее распространенных городищенских типов - простые лепные горшки с защипами и столовые лощеные миски (рис.10) . Подобное, явно намеренное «избегание» трудно объяснимо, если исходить из утвердившегося три десятилетия назад взгляда на принадлежность курганов и городищ одному и тому же населению - племенам среднедонской культуры .
Проведенный выше комплексный анализ курганов Среднего Дона по частоте встречаемости престижных типов погребальных сооружений, наступательного и оборонительного вооружения, социально значимых категорий инвентаря, парадных вещей и античного импорта однозначно показал, что среди них свыше 75 % содержали погребения, которые по применяемым в скифологии критериям следует признать не рядовыми, а принадлежащими военно-аристократической верхушке. В отличие от Степной Скифии анализ среднедонских курганных некрополей не позволил выделить в них не только «бедной, преобладающей численно массы населения», но и сколько-нибудь значительной группы рядовых погребений. Между тем, по подсчетам В.Ф.Генинга, у скифов IV в. до н.э. «трудовой народ» составлял основную массу населения (95 %), по Е. П. Бунятян, свыше 60 % плюс еще 7 % бедноты. Видимо, нужно признать, что изучаемые памятники не отражали всего спектра социальных статусов, существовавших у обитателей Среднего Дона в скифское время. По ним можно в какой-то мере судить лишь о положении высших слоев общества, для которых только и был характерен курганный обряд погребения.
Об этом свидетельствуют и другие данные, в частности количественное соотношение анализируемых погребальных и бытовых памятников скифского времени. Относительно небольшое число среднедонских курганных некрополей в сравнении с количеством (около 60) и площадью городищ указывает на то, что в скифское время под курганными насыпями могли погребаться далеко не все представители местного населения, а лишь какая-то, явно меньшая его часть.
Подобно лучше известной нам скифской знати господствующая верхушка средне-донского общества вряд ли представляла сколько-нибудь единый и тем более однород-ныйх слой. Среди нее были и настоящие аристократы, такие, например, как погребенные в кургане 29/21 Мастюгинского могильника или в кургане 1 у с. Дуровки. Были среди них и простые воины-дружинники, такие, как погребеный в кургане 38 Старожи-вотинного могильника, которому кроме личного оружия оставили лишь амфору.
Однако все попытки найти надежные качественные критерии внутренней дифференциации среднедонских погребений путем корреляции признаков различной социальной значимости с переменными (размеры курганных насыпей, могил и т.п.) в большинстве случаев не давали сколь-нибудь однозначных результатов, прежде всего, из-за невозможности установления подлинной причины их отсутствия - то ли в силу действительно более низкого статуса погребенных, то ли в результате неполноты погребального комплекса, когда тот или иной «признак» был просто унесен грабителями. Тем не менее на ряде графиков выявилась явная зависимость между частотой встречаемости определенных категорий инвентаря, типами погребальных сооружений и их размерами. В результате последние распределились натри группы:
1-я группа - 28 погребений(25%) малых размеров площадью от 1,5 до 8 кв.м. Из оружия в них чаще представлены только наконечники стрел, реже дротиков и копий, известны находки деталей конской упряжи, но нет мечей и защитного доспеха. Весьма показательно, что в могилах этой размерной группы ни разу не найдены бронзовые литые котлы, «ритуальные» сосудики, деревянная посуда с металлическими накладками, золотые нашивные бляшки, хотя украшения из золота редкостью не являются (7 случаев). Первая группа включала главным образом погребальные сооружения I и II типов.
2- я группа - 68 погребений (61%) средних размеров площадью от 9 до 22,5 кв.м. В отличие от первой в ней присутствовали все социально значимые категории инвентаря и виды вооружения. В эту группу входили почти все погребальные сооружения III и IV типов и лишь отдельные могилы II типа.
3- я группа - 15 погребений(14%), совершенных в наиболее грандиозных погребальных сооружениях размерами 22,5 - 49 кв.м. Почти на всех графиках она отделялась от могил 2-ой группы заметным разрывом в диапазоне 22,5 - 28,75 кв.м. Могилы этой группы содержали все социально значимые признаки 2-ой группы, плюс престижные серебряные ритоны и кубки, указывающие на особый статус их владельцев. Их хоронили в погребальных сооружениях исключительно III и IV типов.
Из выявленных зависимостей обращает на себя внимание одна, как представляется, весьма перспективная для социальной атрибуции среднедонских курганов. Золотые нашивные бляшки проявляли вполне определенную тенденцию попадания в могилы средних и больших размеров преимущественно III и IV типов(рис.14). В более или менее полно сохранившихся комплексах они обнаруживали повышенную встречаемость с особо престижными вещами: серебряными ритонами и кубками, деревянными сосудами с металлическими накладками, котлами, изделями в зверином стиле. На мой взгляд, все это позволяет расматривать данную категорию находок в качестве достаточно надежного диагностического признака аристократических погребений. По-видимому, как и в Скифии, на Среднем Дону высокий социальный статус знати подчеркивался богатым декором верхней одежды, расшитой множеством золотых бляшек. Именно такие роскошные одеяния имели аристократы, изображенные на знаменитом Воронежском сосуде (рис. 17).
Если неграбленных аристократических курганов на Среднем Дону пока неоткрыто, то хорошо сохранившиеся воинские дружинные погребения известны. Для них был характерен полный набор вооружения (мечи, копья, дротики, стрелы, иногда пластинчатый доспех), встречались в них и амфоры, изделия в зверином стиле, изредка котлы и даже украшения из золота, но не золотые нашивные бляшки. Однако все же большинство среднедонских курганных погребений нельзя надежно дифференциировать на воинские (дружинные) и аристократические. Да это и не столь существенно для нашего исследования. На мой взгляд, главная социальная особенность среднедонских могильников заключалась не в наличии высоко или низко ранжированных погребений, а в явном количественном преобладании среди них лиц, принадлежащих к весьма многочисленному и хорошо вооруженному «среднему слою» (свыше 60%).

Это наглядно демонстрирует граф (рис.16), составленный на основе анализа таблиц взаимовстречаемости социально значимых категорий инвентаря, типов и размеров погребальных сооружений (табл. 2-3).


Если по материалам среднедонских курганов отчетливо выявляется довольно высокий социальный статус большинства погребенных, то этого никак нельзя сказать об оседлом населении городищ. Целый ряд существенных признаков (достаточно однотипные небольших размеров жилища, наличие большой общинно-ритуальной постройки на Волошинском I городище и общественных хранилищ зерна на Пекшевском городище, в целом весьма невысокий уровень материальной культуры и благосостояния) свидетельствует о том, что основная масса оседлого населения фактически продолжала существовать в условиях позднепервобытно-общинного строя с практически еще во многом сохранившейся эгалитарной внутренней структурой. И в этом смысле бытовые памятники представляют полный контраст расположенным поблизости курганным некрополям.
Как известно, противопоставление численно незначительной элитарной прослойки основной массе общинников свойственно большинству развитых вождеств. По материалам среднедонских могильников налицо все три основных, археологически фиксируемых признака этой переходной формы социально-политической организации от традиционных общинно-родовых структур к раннеклассовому обществу и государству:
1. развитая социальная стратификация;
2. создание специальных погребальных комплексов для знати в виде обособленных курганных могильников;
3. монументальность погребальных сооружений, пышность обряда, разнообразие и богатство инвентаря, в котором важное место занимали социально престижные вещи.
Комплексный анализ среднедонских курганных могильников скифского времени позволяет сделать некоторые заключения, проливающие свет на происхождение и природу этого культурно-исторического феномена.
1. Курганные могильники, скорее всего, являлись некрополями не всего среднедонского населения, а лишь его части - военно-аристократической верхушки.
2. Сравнительный анализ материалов городищ и курганных некрополей свидетельствует о сосуществовании на Среднем Дону в VI — IV вв. до н.э. в рамках единого эт-но-политического организма двух различных социо- а, возможно, и этнокультурных комплексов: массовой культуры рядового населения городищ и элитарной субкультуры военно-аристократической верхушки, погребаемой в курганах. Первый представлял хозяйственно-культурный тип лесостепных земледельцев и скотоводов, скорее всего находившихся в определенной зависимости от последних. Знать же вела образ жизни, близкий степным ираноязычным номадам. Поэтому свойственная ей субкультура была насыщена престижными ценностями не только местного, но и античного производства.
3. Выявляется ряд существенных признаков, как будто бы указывающих, что различия между двумя группами среднедонского населения носили не только социальный, но, возможно, изначально и этнический характер: удаленность и топографическая обособленность курганных могильников от ближайших городищ, отказ знати и воинов от употребления в курганах наиболее распространенных типов местной посуды, а, скорее всего, и местной пищи, разительные различия в их материальной и духовной культуре (звериный стиль и высокохудожественные изделия с антропоморфными сюжетами греко-скифского искусства в курганах, с одной стороны, и грубая глиняная антропо- и зооморфная пластика на городищах, с другой). История знает множество примеров возникновения разноэтничных позднепотестарных и раннеполитических структур с последующей трансформацией межэтнических противоречий в сословно-классовые. Подобные образования известны у скифов, начиная с эпохи архаики .
4. Основное ядро этнокультурного комплекса среднедонских могильников появилось в лесостепном Подонье в уже сложившемся виде не позже конца VI—V вв. до н. э. Складывается впечатление, что оно было принесено сюда из более западных лесостепных районов. Именно в курганных могильниках Днепровского Право- и Левобережья обнаруживаются не только истоки его отдельных элементов, но и их целые взаимосвязанные блоки, сформировавшиеся там еще в VII—VI вв. до н.э. в результате проникновения в украинскую лесостепь иранцев-номадов, покоривших часть местного населения и создавших скотоводческо-земледельческое объединение под эгидой военно-кочевой знати.
5. Этой гипотезе не противоречит и антропологический материал, правда, очень немногочисленный. По заключению Т. В. Томашевич, некоторые из черепов Ближне-стояновского могильника близки «среднеднепровской серии» .
6. Переселение на Средний Дон части приднепровского населения, сохранившего традиции курганных погребений, как то было связано с событиями рубежа VI—V вв. до н.э., коренным образом изменившими этно-политическую ситуацию в Северном Причерноморье и в Лесостепи. Кажется, далеко не случайным практически полное совпадение по времени первых захоронений в Частых и Мастюгинских курганах и начала затухания военно-аристократических некрополей Днепровского Левобережья. Не исключено, что уход части старой лесостепной знати далеко на восток был вызван ее нежеланием признать владычество геродотовых «скифов царских».
7. Вплоть до конца скифской эпохи военно-аристократическая верхушка Среднего Дона во многом придерживалась старой погребальной обрядности раннескифского времени, в частности, сохранила обычай погребения в деревянных столбовых склепах, как с дромосами, так и без них, биритуализм захоронений при преобладании ингума-ции, обычай поджигать деревянный склеп или его перекрытия и т.п. Причем, на Среднем Дону их расцвет приходится на V и особенно на IV вв. до н.э., когда в украинской лесостепи этот старый тип погребальных сооружений и связанной с ним обрядности явно начинает затухать, а в Степной Скифии всецело возобладали катакомбные захоронения.
На мой взгляд, все вышесказанное позволяет допустить, что с конца VI по начало III вв. до н.э. на Среднем Дону наряду с численно преобладающим рядовым земледель-ческо-скотоводческим населением городищ проживали отдельные группы (роды) потомков иранцев-номадов, проникших в лесостепь еще в VII—VI вв. до н.э., культурно, а скорее всего, и этнически связанных с «ранними или «старыми» скифами . В V-IV вв. до н.э. ими могли быть родственные скифам и отчасти говорившие на их языке гелоны (Herod.: IV, 108). Вероятнее всего, их верхушка составила здесь своего рода властвующую элиту, явно процветавшую, судя по обилию античного импорта и других дорогих изделий, за счет эксплуатации основной массы зависимого земледельческо-скотоводческого населения городищ.
Скорее всего, его эксплуатация носила коллективный характер - каждый знатный род владел определенной подвластной ему территорией, вероятнее всего, соответствующей одному из выделенных микрорайонов с населением в несколько сот, а то и тысяч подданных. Как и везде в скифском мире, основной формой эксплуатации, видимо, было данничество и различные виды трудовых повинностей, в частности, по сооружению монументальных курганных усыпальниц, но особенно по заготовке сена, без которого стада номадов просто не смогли бы перезимовать в лесостепи с ее более высоким снежным покровом. В социальном плане такое локальное образование, вероятно, соответствовало отдельному вождеству. По своей природе каждое из них представляло собой вынужденное социально-экономическое единство двух различных хозяйственных укладов: степного полукочевого, правда, уже весьма существенно трансформировавшегося в местных условиях, и лесостепного оседло-земледельческого, также, несомненно, деформированного в результате его включения в это вынужденное единство. Но объективно оба они соответствовали двум основным экологическим нишам лесостепной зоны.
Такой мне представляется, по данным археологии, социальная природа этнокультурного и этносоциального образования, сформировавшегося на Среднем Дону и прилегающих районах Подворонежья в скифское время, наиболее яркими памятниками которого были среднедонские курганы. Их сложный погребальный обряд и богатый инвентарь скорее всего, отражают так называемый военно-аристократический путь политогенеза . Следует еще раз отметить, что столь глубокой социальной пропасти и культурного различия между военно-аристократической элитой и рядовым населением в лесостепном Подонье не наблюдалось ни до, ни после скифской эпохи, пожалуй, вплоть до периода развитого Средневековья.
Одним из перспективных направлений современных исследований является так называемая пространственная археология. В основе ее лежит ряд теоретических принципов и научных методов, заимствованных археологами из социально-экономической географии и переосмысленных в соответствии с их собственными нуждами. Согласно важнейшему из них, пространственное размещение следов человеческой деятельности есть не что иное, как отражение реальной экономической и социальной деятельности носителей древних культур. Ее изучение достигается различными методами: путем выявления и картографирования синхронных однокультурных памятников, установления пространственных связей между ними, выделения локальных микрорайонов, изучения их внутренней структуры, иерархии поселений и т. п. Однако пространственный анализ может быть результативным только при достаточно высокой степени изученности того или иного региона сплошными разведками. Непременым его условием является наличие необходимого количества «базовых» памятников, как бытовых, так и погребальных, раскопанных максимально широкой площадью.
Сейчас этим требованиям начинает отвечать территория лесостепного Подонья, где в последнее десятилетие развернулись масштабные полевые работы, прежде всего, в связи с подготовкой материалов к изданию Свода памятников истории и культуры России. Планомерное изучение бассейнов больших и малых рек на всей территории Донской лесостепи позволило создать качественно новую источниковую базу для разработки указанной проблемы. В настоящее время здесь известно не менее 60 городищ и свыше 300 открытых скифоидных поселений (рис.2).

Уровень их изучения таков, что позволяет произвести археологическое районирование (рис.3).

Для изучения системы расселения скифоидных племен наибольшие возможности предоставляет правобережный район среднедонской лесостепи, включающий бассейны рек Тихой Сосны, Потудани, Нижней Девицы с прилегающими к ним участками правого берега Дона (рис. 4).

Здесь учтено 25 городищ (из них стационарно раскапывалось 14), 134 неукрепленных поселений, а также пять больших курганных могильников, содержащих около 90 погребений скифского времени. Я рассматриваю городища и поселения как синхронные, по крайней мере, для конца V-IV вв. до н. э., так как подавляющее большинство из них содержали лепную керамику и фрагменты амфор этого времени. Тем же временем датируются и 95% среднедонских курганных погребений. Эти материалы открывают новые возможности для изучения внутренней структуры территории, занятой средне донскими скифоидными племенами в V - IV вв. до н. э. При ее исследовании максимально использовались результаты комплексного анализа ландшафтов Центрального Черноземья, целенаправленно осуществляемого в последнее время воронежскими географами школы Ф.Н. Милькова.
Исследуемая территория входит в Придонской меловой лесостепной физико-географический район. Это типичная среднерусская лесостепь с преобладанием склонового типа местности, который занимает 50 - 55% ее площади. Естественный травяной покров сохранился по берегам рек, оврагов, балок. Он представляет собой остатки древних луговых и ковыльно-разнотравных степей, некогда занимавших обширные площади по водоразделам. До сих пор нераспаханные суходолы и небольшие речные долины этого района используются для выпаса преимущественно мелкого рогатого скота, и прежде всего, овец.
В то же время, в левобережье Тихой Сосны сохранились довольно значительные лесные массивы, еще и сейчас покрывающие 11 - 13% его площади. Здесь находится наиболее облесенный район Правобережья Среднего Дона, где леса занимают не только долинно-балочные склоны, но частично выходят и на водоразделы. Это известные Острогожские, Алексеевские, Красногвардейские дубравы, где главной лесообразую-щей породой был и до сих пор остается дуб. В глубокой древности они составляли обширный Куколов лес, покрывавший почти все левобережье Тихой Сосны, в том числе частично и водораздельные плато. Поэтому, видимо, далеко не случайно именно в этой сильно облесенной местности было сооружено большинство (не менее 15-ти) городищ Среднедонского Правобережного района. В отличие от последних, синхронные им курганные могильники занимали возвышенные участки междуречий, причем, всегда на черноземных почвах, некогда покрытых степной растительностью.
Впервые вопрос о конкретной структуре расселения среднедонского населения скифского времени был поставлен П.Д.Либеровым. Однако в силу слабой и крайне неравномерной изученности этого района в 50 - 60-е годы ему пришлось ограничить исследование, главным образом, выделением нескольких групп городищ и связанных с ними курганных могильников. При этом следует заметить, что их выявление производилось по простейшему критерию - степени территориальной близости памятников. В результате исследователю удалось получить семь групп городищ на Среднем Дону. Но весьма слабая источниковая база даже для этого, наиболее изученного в то время района Среднедонского Правобережья и недостаточное внимание к ландшафтному окружению памятников привели к тому, что большинство городищ было объединено в группы весьма произвольно.
Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно наложить последние на крупномасштабные ландшафтные карты. Так,
П. Д. Либеров включил в одну группу пять городищ: Верхняя Покровка I и II, Стрелецкое, Городище и Кировское. Однако первые три находятся в бассейне р. Усердец (левый приток р.Тихая Сосна), два других - на берегах суходола, впадавшего в р. Камышенку (также левый приток р. Тихой Сосны). Еще больше возражений вызывает объединение в одну группу городищ Круглое, Русская Тростянка, Шубное. Каждое из них находится на берегу небольшой речки или суходола и отделено от других водоразделами с развитой овражно-балочной сетью.
Еще в процессе подготовки к сплошному обследованию рассматриваемого региона на стадии изучения публикаций и архивных материалов я обратил внимание на одну повторяющуюся особенность местоположения городищ скифского времени в Средне-донском Правобережье. Очень часто они располагались в верховьях и низовья рек. Например, на р. Усердец в верховьях находятся два городища у с. Верхняя Покровка, а в низовьях - Стрелецкое городище. На р. Камышенка у ее истоков известно городище
Круглое, а в ее низовьях - Кировское городище и связанный с ним курганный могиль-ник Дуровка . Однако в обоих случаях вызывало недоумение отсутствие памятников по среднему течению этих рек между городищами, хотя разведки по их берегам производились неоднократно Лесостепной Скифской экспедицией.
С целью выяснения этого вопроса в 1989 г. мною произведено сплошное обследование бассейна р. Камышенка в Алексеевском районе Белгородской области (рис.4). Разведка проводилась в начале мая, когда пойма реки и склоны ее берега были почти полностью распаханы, что максимально облегчало обнаружение археологических памятников. В результате целенаправленных поисков были открыты шесть поселений скифского времени. Они позволили надёжно связать оба вышеназванные городища в единый археологический комплекс.
Для контрольной проверки подмеченной закономерности была избрана р. Девица, где ранее значилось лишь одно поселение этого времени. Картографирование данных разведок И.Е. Бирюкова (1989 - 1990 гг.) и автора (1992 г.), а также сведений краеведов И.Я.Ярцева и П. М. Золотарева позволило установить следующую систему расселения по этой реке. У самых ее верховьев находится городище «Крутцы» у с. Ново-Солдатка и окружавшие его пять поселений, в среднем течении - небольшое городище-убежище Гора Белая I и два расположенных поблизости пойменных поселения, в низовьях - еще 15 поселений скифского времени. Имеются данные начала XX в. о существовании в низовьях этой реки каких-то двух древних городищ. Скорее всего, именно с этим микрорайоном связан известный Мастюгинский могильник. Во всяком случае, топографически он гораздо лучше увязывается с этой группой памятников, нежели с Большим Сторожевым и Архангельским городищами, удаленными от могильника на 8 - 10 км по густо пересеченному оврагами водоразделу, на чем ранее настаивал П. Д. Либеров. Это предположение дополнительно подтверждает недавно открытое П.М. Золотаревым поселение на территории с. Мастюгино напротив известного могильника с материалами V - IV вв. до н. э.
Близкий по структуре микрорайон выявлен весной 1990 г. по р. Тростянка в Острогожском районе Воронежской области. Ранее здесь были известны и активно исследовались экспедицией П.Д. Либерова городище и могильник скифского времени у с. Русская Тростянка, а также одно поселение. В результате разведки обнаружено еще 9 поселений V - IV вв. до н. э., расположенных в окрестностях городища и могильника, а также ниже по течению реки. Таким образом, и на р. Тростянке в древности существовала схема расселения, близкая открытым по рекам Камышенка и Девица.
В 1991 г. в левобережье Тихой Сосны Скифо-Сарматским отрядом проведено сплошное археологическое обследование всех балок и суходолов от долины р. Тростянки на западе до Дона на востоке. Укажу, что на этой территории ранее были известны лишь городища (Шубное, Волошинские I - VI, Аверинское, Мостище). В результате разведки в пяти суходолах (Глубокий и Городецкий Яры в окрестностях с. Шубное, Жалин Яр и суходол Острогоща в окрестностях с. Волошино, Безымянный яр севернее г. Острогожска и в двух балках у с. Коротояк), а также по левому берегу Тихой Сосны и ее притоку р. Олыпану открыто 63 поселения скифского времени (рис.4). В суходолах памятники встречались, главным образом, на возвышенных участках дна, вблизи пересохших русел древних речек, реже - по пологим склонам берега. На дне обследованных балок следов поселений не обнаружено. Как правило, они занимали участки, непосредственно прилегающие к кромке водораздельных плато. Подавляющее большинство их расположено на черноземных почвах. Топографически такие стоянки часто никак не выделялись и фиксировались только по распространению подъемного материала по свежей распашке.
Абсолютное большинство открытых памятников имели тонкий, слабо насыщенный слой, как правило, почти полностью уничтоженный пахотой. Обычно их площадь невелика, хотя иногда встречаются поселения, вытянутые вдоль склона берега или русла ручья на 200 - 400 м. Собранный на их поверхности материал представлен немногочисленными находками лепной керамики, реже фрагментами амфорной тары и лишь в отдельных случаях орудиями труда, а также костями животных. Судя по топографии, характеру культурного слоя и составу находок, большинство памятников являлись остатками кратковременных сезонных поселений типа стойбищ или кочевий (рис.6, 1 - 2). На некоторых из них, например, у с. Ураково на р. Камышенке культурные остатки залегали не сплошным слоем, а отдельными пятнами овальной формы размерами от 20 х 50 до 40 х 70 м (рис. 6, 3). Последние, скорее всего, маркируют местоположения отдельных легких жилищ типа шатров, юрт или кибиток.

Лишь некоторые из среднедонских неукрепленных поселений I тыс. до н. э. имели долговременный характер, о чем свидетельствует их более мощный и насыщенный находками культурный слой, содержащий не только керамику, но и орудия труда, включая массивные каменные зернотерки. Топографически они были приурочены к высоким незатопляемым участкам поймы или пологим склонам мысов первой надпойменной террасы (рис. 6, 4). Такие поселения, как правило, располагались в среднем течении рек или суходолов (Камышенка 1, Волошино 9, Коротояк 5), а иногда явно занимали промежуточное положение между верховыми и низовыми городищами.
Выявленные по рекам Камышенка, Тростянка, Девица и некоторым суходолам микрорайоны памятников скифского времени имеют устойчивую организационную структуру, основными звеньями которой в большинстве случаев являлись городища в верховьях и низовьях, связанные серией открытых сезонных поселений. Если река имела более значительные размеры, то городища иногда сооружались и в среднем ее течении, как это было зафиксировано на р. Девица. На небольших речках функцию последних могли выполнять и промежуточные неукрепленные поселения стационарного характера. Такая схема расселения, видимо, являлась типичной для основной территории Правобережья Среднего Дона выше р. Тихая Сосна. Если это так, то и на других малых реках можно ожидать подобных результатов. Наложение имеющихся археологических данных на речную сеть Правобережья Дона показывает, что здесь возможно выделение свыше 10-ти микрорайонов памятников скифского времени.
Кроме вышеназванных, еще один микрорайон со временем определенно будет выделен в долине р. Усердец, где, как уже указывалось, имеются городища в верховьях и низовьях. Несомненно, еще один, а, возможно, даже несколько микрорайонов расселения локальных групп среднедонского населения в общих чертах начинает вырисовываться по р. Потудань, в низовьях которой расположены городища Мостище и Аверино, а выше - серия пойменных поселений, выявленных П.Д. Либеровым и В.Д. Берtзуцким. По данным, собранным Центральным Статистическим комитетом Императорского Археологического общества в 1873 г., в среднем и верхнем течении этой реки были отмечены городища . Возможно, одно из них было вновь открыто Потуданской экспедицией И А РАН в 1993 у с. Солдатское.
Весной 1992 года автором проведено полное обследование одного из левых притоков этой реки - р. Скупая Потудань. В ее верховьях удалось обнаружить еще одно небольшое городище-убежище, а ниже - серию из шести поселений V - IV вв. до н. э. Вероятно, с юга этот микрорайон замыкало городище у с. Россошь в месте впадения Скупой Потудани в р. Потудань, известное по сведениям Центрального Статистического Комитета 1873 года и к настоящему времени не сохранившееся.
Наиболее северный микрорайон Донского Правобережья, видимо, составят памятники по р. Ведуга и ее притокам с прилегающими участками берега Верхнего Дона (рис.5). Хотя археологическое изучение этой территории далеко еще не завершено, тем не менее, здесь уже известны два городища (Семилукское и Губаревское), а также 14 поселений скифского времени . Среди них наибольший интерес представляет группа поселений в верховьях речки Камышевка и ниже, в месте ее слияния с речками Трещевкой и Ведугой, где известно хорошо укрепленное Губаревское городище и несколько открытых поселении .

По нижнему течению р. Воронеж, в силу ландшафтных особенностей этого района, а также затопления водами Воронежского водохранилища большей части речной поймы пока не удалось выявить каких-либо локальных групп, по своей структуре близких среднедонским микрорайонам, несмотря на очень высокую плотность распространения памятников (рис. 5). Видимо, из-за отсутствия сколь-нибудь развитой речной сети в Правобережье Воронежа, в скифское время сложилась иная схема расселения, нежели на Среднем Дону. Не исключено, что при ее формировании не последнюю роль сыграло наличие надежной естественной защиты с запада в виде Воронежской нагорной дубравы, и особенно с востока - обширных лесных массивов Усманского Бора и сильно заболоченной поймы Левобережья.
На мой взгляд, все выделенные микрорайоны представляют остатки схемы расселения и хозяйственной деятельности отдельных социальных подразделений среднедонского населения скифского времени. Основной территорией обитания каждого из них являлся бассейн той или иной малой реки. Сейчас еще преждевременно определять характер этой социальной единицы. Однако размеры освоенной ею территории, значительное количество неукрепленных поселений (сохранилось от 6 до 23) и городищ (от одного до шести) в большинстве микрорайонов позволяют думать, что скорее всего она была явно крупнее отдельной общины (или патронимии), но вряд ли больше племени -основной надобщинной структуры той эпохи. Последнему, скорее всего, могло соответствовать население нескольких соседних микрорайонов, охватывающих весь или лишь часть бассейна более крупной реки. Таковых могло быть от двух (1 - Средний Дон, 2 - Верхний Дон, включая нижнее течение Воронежа) до четырех-пяти (1 - Тихая Сосна, 2 - Потудань, 3 - Нижняя Девица, 4 - Верхний Дон (примерно до г. Задонска), 5 -Воронеж (до современной границы с Липецкой областью)). В совокупности они, видимо, составляли высший тип социального объединения общества переходной эпохи -«метаплемя» или «соплеменность».
Как видно по остаточным схемам расселения, микрорайоны существенно различались своими размерами, числом и площадью укрепленных и открытых поселений, степенью их концентрации, наличием или отсутствием богатых курганных некрополей (табл. 1). По-видимому, они, так или иначе, отражали различия в масштабах отдельных локальных образований среднедонского населения, их далеко неодинаковые возможности обладания людскими и природными ресурсами.

Пространственный анализ открывает новые перспективы в разработке еще одного вопроса - увязке городищ с курганными могильниками. Четверть века назад П.Д. Либеров предложил свое решение этой проблемы . Однако далеко не все указанные им отождествления бытовых и погребальных памятников выглядят сейчас убедительно. Проведенный автором пространственный макроанализ памятников скифского времени лесостепного Подонья позволил установить некоторые закономерности взаиморасположения курганных некрополей и близлежащих городищ. Оказалось, что все известные курганные могильники находились на значительном удалении (от 2,5 до 8 км) от ближайшего городища (рис. 4; 5). Но что еще более существенно, они всегда располагались на противоположных берегах рек или суходолов. Такую топографию дают Частые курганы и расположенное на противоположном берегу Дона Семилукское городище, в окрестностях которого имелось несколько бродов; Мастюгинский могильник и городище Гора Белая I на р. Девица, разделенные мощным логом; курганный могильник и городище у с. Русская Тростянка, разделенные пересохшей ныне речкой; Кировское городище и могильник у с. Дуровка, между которыми также проходит глубокий древний суходол. Эту закономерность подтвердило открытие и изучение нами в 1995 г. еще одного курганного могильника скифского времени у с. Староживотинное на р.Воронеж, отделенного Мокрым Логом от Животинного городища VI-IV вв. до н. э. .
Исходя из этой закономерности, предлагается решение вопроса о некрополе известных Волошинских городищ. Все они расположены довольно компактно в верховьях Жалина Яра П.Д. Либеров, в течение многих лет исследовавший этот комплекс памятников, не смог найти его некрополя. Мне также не удалось обнаружить в окрестностях с. Волошино каких-либо курганов ни в 1991 г., ни в 2000 г. во время мониторинга Во-лошинского археологического комплекса. Однако некрополем местной военно-аристократической верхушки вполне мог быть Ближнестояновский курганный могильник, расположенный на противоположном берегу р. Тихой Сосны против устья Жалина Яра. В 80-х годах экспедицией Воронежского пединститута в нем исследовано 7 курганов, содержащих 9 погребений конца V - IV вв. до н. э., очень близких захоронениям других среднедонских могильников .
Явная территориальная обособленность среднедонских курганных некрополей от соседних городищ и, в то же время, их вхождение в структуру некоторых микрорайонов заставляет думать о принадлежности тех и других различным, хотя как-то и взаимосвязанным группам лесостепного населения. Небольшое число курганных некрополей в сравнении с количеством и площадью правобережных городищ указывает на то, что под курганами погребались далеко не все представители среднедонского населения, а лишь его военно-аристократическая верхушка. Это заключение находит подтверждение как в доминирующем типе среднедонских погребальных сооружений (обширные деревянные столбовые гробницы, в том числе, с дромосами), так и в престижном погребальном инвентаре (обилие предметов наступательного и оборонительного вооружения, снаряжения коня, изделий в зверином стиле, бронзовых котлов, античных амфор и прочего импорта, украшений из драгоценных металлов и т. п.). Разительно различается керамический комплекс курганных захоронений и городищ. Если в первых он представлен, прежде всего, античной круговой посудой, качественно изготовленными лепными кувшинами и вазами, а также «ритуальными сосудиками», то на городищах основную массу находок составляют грубые лепные горшки и миски . В отличие от других лесостепных областей на Среднем Дону последние практически не использовались в качестве инвентаря курганных захоронений.
Если по материалам среднедонских курганов отчетливо выявляется довольно высокий социальный статус большинства погребенных, то этого никак нельзя сказать об оседлом населении городищ. Целый ряд существенных признаков (достаточно однотипные, небольших размеров жилища, наличие большой общинно-ритуальной постройки на Волошинском I городище и общественных хранилищ зерна на Пекшевском городище, в целом весьма невысокий уровень материальной культуры и благосостояния и др.) свидетельствует о том, что основная масса оседлого населения фактически продолжала существовать в условиях позднепервобытно-общинного строя с практически еще во многом сохранившейся эгалитарной внутренней структурой. Во всяком случае, ни на одном из широко исследованных среднедонских городищ до сих пор неизвестны более монументальные сооружения с материальными остатками, позволяющими видеть в них постоянные резиденции местных вождей. Археологически не выявлено каких-либо признаков имущественного неравенства и внутриобщинной эксплуатации. И в этом смысле бытовые памятники представляют полный контраст расположенным поблизости курганным некрополям.
Проведенный топографический и сравнительный анализ материалов городищ и курганных могильников свидетельствует о сосуществовании в Донской лесостепи в конце VI - IV вв. до н. э. двух весьма разнородных культурных комплексов: культуры рядового населения городищ и элитарной субкультуры военно-аристократической верхушки, погребаемой в курганах . Поэтому вполне возможно, что городища и связанные с ними стационарные поселения, с одной стороны, и цепочки кратковременных сезонных стоянок и курганных могильников - с другой, так или иначе, отражали два основных уклада жизни, связанных с различными хозяйственно-культурными типами (ХКТ), сосуществовавшими в Донской лесостепи на протяжении скифской эпохи:
1. ХКТ оседлых лесостепных земледельцев и скотоводов с пастушеским, придом-ным видом животноводства. Основной тип их постоянных местообитаний - укрепленные городища с выраженным культурным слоем (рис. 1,1- 2), реже - открытые поселения. Этот ХКТ довольно хорошо изучен и неоднократно описывался скифологами.
2. ХКТ подвижных скотоводов, по существу полукочевников. Скорее всего, именно они могли оставить большинство сезонных стоянок (рис.6, 1 - 3) и все среднедонские курганные могильники. Обоснованное определение типа полукочевого типа хозяйства специально к ландшафтно-климатическим условиям среднедонской лесостепи дано А. А. Шенниковым, правда, для более позднего периода.
Эти различия нашли определенное отражение не только в типах и топографии поселений, но и в остеологическом материале городищ и курганных могильников. Если на большинстве среднедонских городищ в составе стада преобладал крупный рогатый скот, затем шли лошади при довольно высоком проценте поголовья свиньи, которая на многих поселениях почти не уступала численности мелкого рогатого скота , то по курганным материалам определенно устанавливается доминирование в стаде лошади при почти одинаковой доле крупного и мелкого рогатого скота и практически полном отутствии свиньи .
Однако нужно признать, что скотоводческие племена Среднего Дона, и тем более Подворонежья, не могли быть кочевниками в полном смысле этого слова. Скорее всего,они практиковали подвижное отгонное скотоводство с ограниченным радиусом выпаса. Регулярные длительные перекочевки на большие расстояния здесь были не нужны в силу того, что продуктивность зеленой массы лесостепи в два - три раза превышает таковую в злаковой зоне степи. Как только что указывалось, о том же свидетельствует и остеологический материал из среднедонских курганных погребений, где преобладал не обычный для кочевников мелкий рогатый скот, а лошадь. В пользу такой оценки говорит и слишком густая для «чистых» номадов сеть сезонных стоянок, выявленная в отдельных микрорайонах Донского Правобережья, в том числе там, где полностью отсутствовали стационарные городища и поселения, например, микрорайон в окрестностях с. Шубное (рис. 4). Как уже неоднократно отмечалось, в качестве весенне-летних пастбищ среднедонские номады могли использовать обширные остепненные районы Левобережья Дона по его водоразделам с Битюгом, а также подзону южной правобережной лесостепи ниже Тихой Сосны вплоть до р.Черной Калитвы и р. Богучар (рис. З). Но к зиме они вынуждены были пригонять свои стада в окрестности городищ. Без последних неоседлые скотоводы Среднедонской лесостепи просто не могли существовать, так как значительная толщина снежного покрова (на открытых пространствах - в среднем 12-14 см, но иногда до полуметра) , делала зачастую невозможной тебеневку - зимний выпас лошадей, не говоря уже о других видах скота . В силу этой причины на Среднем Дону нельзя было постоянно держать зимой скот на подножных кормах, как это обычно практиковали кочевники южных районов. Необходимо было, хотя бы на время нередких зимних бескормиц, подкармливать животных сеном или другими грубыми кормами, заранее заготовленными в определенных местах . Поэтому лесостепным скотоводам жизненно были необходимы длительные, практически на все холодное время года, остановки близ запасов сена. Скорее всего, именно по этой причине их зимники, иногда отмеченные большими курганными могильниками, входили в структуру отдельных микрорайонов, где проживало преимущественно оседлое население первого ХКТ. Только оно могло обеспечить необходимыми запасами кормов стада номадов. Укажем, что такой тип отношений оседлого русского и неоседлого татарского населения реконструируется на Среднем Дону для XIV - XV вв. по данным письменных источников.
С описанным ХКТ лесостепных номадов, скорее всего, связаны и такие памятники, как большие городища без признаков постоянного обитания или же с крайне слабыми следами культурного слоя типа Шубного, Аверинского и некоторых Волошинских городищ. По-видимому, близка к истине догадка П.Д. Либерова о том, что последние иcпользовались в основном как загоны и укрытия для скота. Весьма показательно, что некоторые из них определенно находились в глубине территории, занятой оседлым населением городищ. В этом плане особый интерес вызывает пара расположенных рядом городищ у хут. Мостище и хут. Аверино (рис. 7, 3).

Первое представляло обычное небольшое мысовое городище с довольно насыщенным находками слоем, на котором открыто около десятка жилищ и более ста хозяйственных ям, многие из которых имели все признаки зерновых. Не вызывает сомнений принадлежность хозяйства его обитателей к первому ХКТ. Примерно в 200 м от него, на том же плато находилось Аверинское городище, по площади примерно в десять раз превосходящее первое. Со стороны поля его защищал сплошной вал длиной около 1 км. Несмотря на большие размеры и довольно мощные укрепления, культурный слой на этом поселении практически отсутствовал. Но, судя по отдельным находкам лепной керамики и фрагментов амфор, Аверине кое городище синхронно городищу у хут. Мостище. Этот памятник трудно интерпретировать иначе, как большой укрепленный загон для скота.
Интересно, что подобные городища-загоны известны лишь в Среднем Подонье, причем, как в Правобережье, так и Левобережье. На Верхнем Дону и р. Воронеж они не встречены, что, скорее всего, было обусловлено существенно меньшим удельным весом неоседлого скотоводства в хозяйстве скифоидного населения этих более северных районов Донской лесостепи. Видимо, развитию полукочевого скотоводства в Верхнем Подонье существенно препятствовал и более высокий снежный покров, особенно если принять во внимание многоснежные зимы, характерные для V - IV вв. до н. э. В настоящее время здесь он чаще превышает предельно допустимые для тебеневки нормы.Средняя высота снега достигает 16-26 см, но иногда до 0,75 м .
Представляется, что оба хозяйственных уклада населения Среднего Подонья и Под-воронежья объективно соответствовали двум основным экологическим нишам восточноевропейской лесостепи. Хорошо известна приуроченность видов производственной деятельности к различным типам лесостепных ландшафтов. При этом, чем глубже кочевья номадов заходили в лесостепь, тем больше они нуждались в хозяйственной интеграции с оседлым населением городищ в силу объективных особенностей природно-климатических условий этой зоны. Это обстоятельство необходимо учитывать и использовать при изучении этнокультурной истории населения Донской лесостепи в раннем железном веке.
Сравнительный этнографический материал по типологически близким обществам демонстрирует картину разнообразных связей между скотоводами и оседлым населением. Скорее всего, на Среднем Дону они осуществлялись в холодное время года, когда кочевавшая по степи знать вместе со своими стадами и окружением возвращалась на зимники, расположенные в окрестностях среднедонских городищ. Возможно, свидетельствами ее периодического пребывания на местных укрепленных поселениях является немногочисленный амфорный бой, обломки тщательно изготовленных «ваз», редкие находки изделий в зверином стиле и более дорогих украшений. По наблюдениям автора, такие находки значительно чаще встречаются на городищах, по соседству с которыми располагался курганный могильник, нежели на городищах, где такового не было.
Мы не знаем, как конкретно осуществлялась эксплуатация военно-аристократической верхушкой местного оседлого населения городищ. Скорее всего, она носила коллективный характер: каждый знатный род владел определенной подвластной ему территорией, предположительно, соответствующей одному из выделенных микрорайонов с населением в несколько сотен, а то и тысяч подданных. В социальном плане такое локальное образование, вероятно, соответствовало отдельному «вождеству». По своей природе каждое из них представляло вынужденное социально-экономическое единство двух различных хозяйственных укладов: степного полукочевого, правда, уже весьма существенно трансформировавшегося в условиях лесостепи, и лесостепного оседлоземледельческого, также, несомненно, деформированного в результате его включения в это вынужденное единство. Но, как уже отмечалось, объективно оба они соответствовали двум основным экологическим нишам лесостепной зоны.
Вероятнее всего, в рамках этих структурных подразделений эксплуатация зависимого населения могла включать сбор регулярной дани продуктами земледелия, ремесла, металлургии, различные формы «кормления», «дары», неэквивалентную торговлю, как это практиковали скифы. Возможно, оседлое население было обязано выполнять и прямые трудовые повинности, в частности, по сооружению монументальных курганных усыпальниц знати, но, особенно, по заготовке сена и других кормов, столь необходимого лесостепным номадам в зимнее время. Многочисленный античный импорт и высокохудожественные изделия из драгоценных металлов, довольно часто встречаемые в среднедонских курганах, в значительной части представляли овеществленную часть прибавочного продукта, изымаемого у местного оседлого населения и превращаемого в атрибут господствующего слоя.
В то же время, было бы исторически несправедливо видеть в среднедонских номадах лишь паразитическую верхушку местного общества. Судя по всему, люди, погребенные в среднедонских курганах, несли основное бремя по защите этой территории от внешних врагов. Несомненна их роль по охране и обслуживанию торговых путей, проходивших через этот регион. По предположению Д.С.Раевского, начиная с архаической эпохи, отряды воинов-номадов периодически внедрялись в иноэтничные оседлоземле-дельческие общества в качестве скифского воинского контингента, составлявшего специализированный социальный слой. Видимо, подобное явление просматривается в археологических материалах лесостепного Подонья с конца VI до начала III в. до н. э.
В современной скифологии все более заметным становится интерес исследователей к проблематике не только Степной, но и Лесостепной Скифии. Представляется, что его возрастание обусловлено рядом причин, как объективного, так и субъективного порядка. После распада СССР российским археологам оказались доступны для непосредственного полевого изучения по преимуществу лишь археологические памятники скифского времени, сохранившиеся на территории лесостепных Воронежской, Курской и Белгородской областей. С другой стороны, после сворачивания полевых работ большинства новостроечных экспедиций в Степном Причерноморье наши киевские коллеги стали проявлять повышенный интерес к лесостепным городищам и курганам. Эта «смена курса» уже нашла отражение в целом ряде публикаций как украинских, так и российских скифологов, среди которых в последние годы заметно преобладают издания по лесостепной тематике .
Сразу нужно сделать оговорку, что как таковое понятие «Лесостепная Скифия» напрямую не восходит к древним источникам, а является ученым конструктом XX в. Однако оно отражает некоторые существенные особенности истории и культуры населения восточноевропейской лесостепи в скифскую эпоху, ставшие известными в первую очередь благодаря успехам археологии. В статье я попытаюсь проследить историю формирования концепций Лесостепной Скифии, а также эволюцию взглядов исследо¬вателей на ее социальную и этническую природу.
Для античных авторов Скифия - это, прежде всего, далекая степная страна между Петром-Дунаем на западе и Танаисом-Доном на востоке (Herod.: IV. 47). Свое название она получила по праву завоевания от этникона «скифы», которым она была подвластна и которые составляли основную массу ее населения (Herod.: IV. 11, 81). Картографирование собственно скифских памятников V - IV вв. до н.э. в целом подтверждает ее пределы, очерченные «отцом истории» - от Дона на востоке до Тираса-Днестра на западе. По его рассказу, Скифская страна представляла плодородную равнину, богатую травой и изобилующую водой. Геродот, как, впрочем, и некоторые другие авторы, иногда именуют ее 'spr]uo<; - буквально «пустыня». Разумеется, здесь речь идет не о подлинной пустыне, а лишь о неосвоенной, с точки зрения эллинов, необработанной земле, то есть о покрытых травой степях. Главная, сразу же бросающаяся в глаза особенность Скифии - она совершенно безлесна: бе 6sv6psov (Herod.: IV. 19); atpXoq (IV. 61). Уже античные авторы понимали, что сама природа Скифской земли обусловила заня¬тие ее населения подвижным кочевым скотоводством. Оно вело непривычный для греков образ жизни, который постоянно привлекал внимание античных писателей: «Здесь живут скифы-кочевники, которые ничего не сеют и не пашут» (Herod.: IV. 19). И далее - «ведь они не основывают ни городов, ни укреплений, но все они, будучи конными стрелками, возят свои дома с собой, получая пропитание не от плуга, а от разведения домашнего скота; жилища у них на повозках...» (IV. 46, 3).
Также описывали скифский уклад жизни Псевдо-Гиппократфе аеге.: 25) и многие более поздние греческие и римские авторы. Поэтому этноним «скифы» в античной традиции зачастую выступает как прямой синоним понятию «номады». Именно с этим народом в сознании эллина ассоциировались типичные черты кочевого уклада.
Современные исследователи обнаруживают следы автопсии «отца истории» не только в окрестностях Ольвии, но и гораздо севернее вдоль берегов Гипаниса - Буга вплоть до священной для скифов земли Экзампей. И это вполне понятно - греки имели некоторые, весьма близкие к реальности представления о природе южной части Скифии, примыкавшей к ольвийской хоре, для которой были типичны степные ландшафты. Единственное исключение Гилея - лесистая область в низовьях Борисфена, которой «отец истории» уделил особое внимание (IV. 19, 76). Но, судя по «Письму жреца» из Ольвии, она принадлежала грекам-ольвиополитам, хотя иногда и подвергалась опустошительным набегам варваров, разорявших эллинские святыни.
Геродот специально замечает, что «никто не знает, что находится выше страны (то есть Скифии — AM.), о которой начато это повествование» (IV. 16). Реальные знания о географии Восточной Европы к северу от Скифии «отцу истории» заменяли теоретические умозаключения типа того, что «выше меланхленов - болота и земля, безлюдная на всем известном нам протяжении» (IV. 20) Лишь в известном геродотовом рассказе о земле будинов мы встречаем описание ландшафта, отличающееся географической конкретностью: «вся их страна поросла разнообразными лесами. А в самом густом лесу есть большое и широкое озеро и вокруг него болото и тростник. В этом озере ловят выдр, бобров и других животных с квадратной мордой... » (IV. 109) . Здесь природа «земли будинов» описана в явном контрасте с расположенной ниже степной страной савроматов, которая, как и Скифия была лишена «и диких, и культурных деревьев» (IV. 21). Для других глубинных областей к северу от Скифии мы имеем лишь отрывочные и косвенные свидетельства о существовании каких-то иных ландшафтов: в земле скифов-пахарей можно заниматься пашенным земледелием, которое и определило их греческий этникон ?KI3QCU apoxr]ps<; (IV. 17), в земле будинов был построен из дерева гигантский город, известный грекам как Гелон; его жители занимались не только земледелием, но и садоводством (IV. 108 - 109). Геродоту было известно, что за страной будинов и семидневной пустыней начинались владения охотников-тиссагетов и иирков, где «деревья... в изобилии растут по всей стране» (IV. 22). Его описание способа «охоты иирков», скорее всего, указывает на южнолесную зону, в лучшем случае - на северное пограничье лесостепи и леса, где дубравы чередовались с открытыми полянами. Но ни Геродот, ни тем более другие античные авторы не знали лесостепной зоны как таковой. Во всяком случае, «отец истории» (или точнее - его информаторы) не обратил на ее ландшафты особого внимания даже при рассказе о знаменитом торговом пути из Гавани борисфенитов на далекий северо-восток, к аргиппеям и исседонам Южного Приуралья (IV. 17 - 25). А путь этот проходил по степным, лесостепным и лесным областям.
В тоже время, вполне очевидно, что в очерченый Геродотом «Скифский тетрагон» (IV. 101) попадала не только степная полоса, но и часть незамеченой им восточноевропейской лесостепи. По его представлениям Скифия простиралась в глубину на 4000 стадий, то есть чуть более чем на 700 км к северу от побережья Понта. Но по рассчетам современных ученых Степная Скифия имела протяженность по направлению с юга на север не более чем на 500 км, а, если учесть вероятный сдвиг природных зон к середине I тыс. до н. э. к югу, то и того меньше. При наложении на современную карту северная сторона «Скифского квадрата» окажется примерно на 53 - 54 параллели, что соответствует линии несколько севернее городов Киев - Курск - Воронеж. По надежным и многочисленным данным археологии эта область была заселена не столько скотоводческими племенами, сколько оседлыми обитателями многочисленных поселений и городищ. Верхняя граница распространения лесостепных скифоидных культур VII - IV вв. до н. э., давно установленная путем картографирования их археологических памятников, довольно точно совпадает с северной стороной «Скифского четырехугольника», удаленной от моря более чем на 700 км. Существенно то, что сюда еще доходил античный импорт, который уже практически не поступал к отдаленным лесным племенам.
Это противоречие между геродотовым описанием Скифии как чисто степной страны и, в тоже время, вполне определенным его указанием о протяженности «Скифского тетрагона» на 4000 стадиев вглубь материка, то есть фактически уже в лесостепную зону, где по данным археологии получил распространив во многом иной уклад жизни, нежели у скифов-кочевников, подтолкнуло исследователей к идее о существовании «Лесостепной Скифии».

Выделение и введение в научный оборот историко-географического понятия «Лесостепная Скифия» явилось результатом археологических исследований на территории восточноевропейской лесостепи, где были открыты памятники, близкие скифским. Их своеобразие уже хорошо ощущал А.А.Спицын. Он фактически подошел к осознанию необходимости выделения своеобразной культуры в лесостепи скифского времени, дав ей условное название «курганы скифов-пахарей» . Он же первым попытался выделить в ней отдельные локальные варианты, исходя из современного ему административного деления по губернскому принципу. Так появились три большие группы «скифов-пахарей» - киевская, полтавская и кубанская. Однако следует напомнить, что ни одну из них А.А.Спицын не связывал с конкретными племенами, упомянутыми Геродотом при перечислении этносов по северной стороне «Скифского квадрата». На всем обширном пространстве украинской лесостепи у него оказались «скифы-пахари» (они же и «скифы земледельцы»), а на Среднем Дону - «воронежские скифы». С ними он предложил связать не только курганы, но лесостепные поселения и городища (Вельское, Басовское, Немировское, Пастырское и др.), открытые по всей лесостепной полосе и уже отчасти подвергнутые изучению.
Практически одновременно со А.А.Спицыным более продуманную и целостную концепцию скифской культуры предложил М.И.Ростовцев. Он выделил в ней уже шесть локальных групп памятников (по его терминологии - «округов»), примыкавших к бассейнам великих русских рек, в том числе, три - на территории лесостепи. Характер имевшихся в распоряжении ученого археологических источников, а это почти исключительно инвентари из раскопок наиболее заметных и богатых курганов, во многом предопределил его понимание скифской культуры, прежде всего, как однородной культуры верхних, господствующих слоев общества, «царей и высшей феодальной аристократии» . В своей оригинальной концепции Скифии М.И.Ростовцев исходил из идеи трехэлементности скифской культуры, сложившейся из греческих, иранских (по его представлениям, собственно персидских) и местных доисторических элементов. Среди последних он особо выделял самобытную культуру населения лесостепи, в которой проявилась очень сложная и древняя культурно-историческая традиция. О ней академик упоминал неоднократно, но в силу своих профессиональных научных интересов не раскрыл, да и не мог раскрыть ее конкретного археологического и этнического содержания. Выдающийся русский ученый яркими, но широкими мазками нарисовал впечатляющую картину скифской государствености. Если в ранней работе он писал о ряде скифо-сарматских государств, раскинувшихся по Дону, Кубани, Бугу, Днепру далеко на север , то позже - о единой Скифской державе. В ее политические границы входило «все северное побережье Черного моря, включая Керченский полуостров, а также все Прикубанъе». С одной стороны, М.И. Ростовцев считал затруднительным выяснить, как далеко заходила власть скифов на север и восток, но, с другой, несколькими строками ниже писал, что течение Днепра вплоть Киевщины и Полтавщины, а Дона - до Воронежа находилось под их властью, ссылаясь на погребения этих местностей, в ко¬торых чрезвычайно силен восточный скифский элемент. В Среднем Поднепровье и По-бужье он помещал автохтонное земледельческое население, покоренное пришлыми кочевниками-иранцами. Но тут же исследователь делал важную оговорку: «Поднепровье и Побужъе, хоть и было под властью скифов, скифским не сделалось. Они жили, как и раньше, своей самобытной и чуждой скифскому укладу жизнью»и работам М.И. Ростовцева, особенно его идее о двухкомпонентности скифской культуры в лесостепи будет суждена долгая жизнь. Забегая вперед, отмечу, что к ней восходят истоки весьма популярной сейчас концепции Лесостепной Скифии, как, впрочем, и «даннической» теории скифской государственности, получившей распространение в отечественной науке в последней четверти XX в. Следует заметить, что уровень исторических обобщений выдающегося русского ученого явно опережал археологическую базу скифологии, которая тогда только начала формироваться и осмысливаться.
Отталкиваясь от работ А. А. Спицына, М.И. Ростовцева и других старых русских археологов, но, в первую очередь, от огромного по объему нового археологического материала, полученного при раскопках городищ, советские археологи к середине XX в. постепенно пришли к заключению о существенных этнических и культурных различиях в степных и лесостепных областях Европейской части СССР в скифское время.
В 1952 г. в Институте истории материальной культуры состоялась первая научная конференция, посвященная ключевым вопросам скифо-сарматской археологии. Следует признать, что по существу она подвела итог практически всему, что ранее было сделано в скифологии. В основном докладе Б.Н. Гракова и А.И. Мелюковой была изложена новая концепция понимания скифской культуры и этногеографии Скифии. Они предложили сузить само понятие «скифы» до границ той Степной Скифии, которую описал Геродот. «Скифы — группа западнопричерноморских и приазовских степных племен, связанных происхождением, обычаями и языком в единое этническое целое» . Они создали в Северном Причерноморье политическое объединение, во главе которого стояли «скифы царские», кочевые по образу жизни. Исходя из такого, более соответствующего геродотовой этногеографической традиции (но не размерами его «Скифского квадрата»!) понимания Скифии, Б.Н. Граков и А.И. Мелюкова предложили выделять на юге Восточной Европы не одну скифскую, а по существу две археологические культуры: собственно скифскую степную, оставленную ираноязычными кочевниками-скифами, и лесостепную (скифообразную). «Теперь в племенах лесостепи следует видеть не собственно скифов, а какие-то нескифские, но сходные с ними по культуре племена. В свою очередь внутри лесостепной скифообразной культуры выделялось шесть локальных вариантов. Крайним восточным вариантом этой культуры признавалась воронежская группа памятников, сосредоточенных по среднему течению Дона.
Изложенная в докладе Б.Н. Гракова и А.И. Мелюковой концепция ориентировала ученых на более конкретный историко-археологический подход в исследовании локальных вариантов памятников скифского времени. Она нацеливала археологов на углубленное изучение не только комплекса «скифской триады», но и погребального обряда, типов поселений, керамики и других элементов культуры, в которых лучше проявляется локальное своеобразие. Однако доклад Б.Н. Гракова и А.И. Мелюковой был принят далеко не всеми скифологами. Против их понимания Скифии и скифской культуры активно выступил А.И. Тереножкин. Его поддержали В.А. Ильинская, П.Д. Либеров и некоторые другие ученые. Они продолжали отстаивать идею единства Скифии и единой скифской культуры. Тем не менее, на практике новый подход к культуре лесостепи скифского времени был принят большинством скифологов и стал активно реали-зовываться российскими и украинскими археологами в 50 - 70-х годы.
В эти годы на лесостепных городищах Восточной Европы были проведены самые большие по площади раскопки: на Трахтемировском в Днепровском Правобережье, Басовском в Посулье, Люботинском на Северском Донце и многих других . Особенно впечатляющие результаты получены в ходе многолетних раскопок на Вельском городище в Поворсклье. Они дали первоклассные археологические материалы, во многом подкрепившие концепцию двух культур скифского времени в степи и лесостепи. В 50 -70-е годы были целенаправленно исследованы укрепленные и неукрепленные поселения на Среднем Дону, среди которых особо выделялся комплекс из шести Волошинских городищ . В Посеймье также были раскопаны городища с типичной скифоидной керамикой и другими находками . С этого времени можно было уверенно говорить об открытии еще одного локального варианта лесостепной культуры скифского времени. В результате к настоящему времени число ее локальных вариантов достигло восьми.
В 50-60-е гг. среди большинства советских археологов окончательно утвердилось представление о культуре населения восточноевропейской лесостепи как особой исто-рико-этнографической области. Тогда же вводится в оборот ее другое название - «Лесостепная Скифия». Выдающийся вклад в разработку этой новой концепции внес Б. А. Шрамко. На основании анализа нового большого материала он пришел к выводу о близости материальной культуры Днепровского Левобережья с другими синхронными культурами лесостепной полосы Восточной Европы. Эту близость он объяснял посте¬пенным проникновением старого земледельческого населения из западных районов, начиная, по крайней мере, с архаической эпохи. Трудно оценить вклад этого исследователя в изучении хозяйственного уклада Лесостепной Скифии . Ему убедительно удалось показать земледельческую основу ее экономики, развитие ряда технологий до ступени специализированного ремесла, наличие на городищах крупных производственных центров черной и цветной металлообработки, костерезного, кожевенного и других производств. В результате работ Б. А. Шрамко и его школы стало очевидно, что основная масса продукции из железа и других металлов, включая изделия «скифской триады», изготавливалась не скифами, а лесостепными ремесленниками . Многочисленные исследования по технологии древних производств, выполненные с применением современных естественно-научных методов, убедили Б.А. Шрамко в том, что подлинными создателями той культуры,которую мы называем скифской, являлись экономически более высокоразвитые, чем скифы-кочевники лесостепные племена. Специализированное ремесло и домашние промыслы способствовали широкому распространению в Восточной Европе изделий «скифского типа», изготовленных руками лесостепных мастеров. Исследователю удалось доказать, что и с появлением скифов в степях Северного Причерноморья в лесостепи сохранилась местная этническая основа и продолжали развиваться местные традиции . Б. А. Шрамко полагал, что многочисленным обитателям лесостепных городищ удалось сохранить независимость, несмотря на неоднократные попытки кочевников-скифов подчинить лесостепь . Эти и многие другие заключения харьковского исследователя ежегодно проходили всестороннюю апробацию на материалах раскопок самого крупного поселения скифского времени Восточной Европы -Вельского городища, которое для скифологов уже давно и прочно связано с именем Б. А. Шрамко. Идеи Б.А. Шрамко получили дальнейшее развитие в докторской диссертации А.А. Моруженко, целиком посвященной изучению историко-этнографической области лесостепного Днепро-Донского междуречья , а также в работах других исследователей . Явное сходство скифоидных памятников разных районов они объясняли не только единством происхождения оставившего их населения, но и развитием однотипного земледельческо-скотоводческого уклада в благоприятных лесостепных условиях, а также тесными экономическими, культурными и историческими связями между отдельными лесостепными районами. Такой подход к лесостепной скифообразной культуре во многом нашел воплощение в скифо-сарматском томе академического издания «Археология СССР» .
Однако в 50-60-е гг. идет процесс формирования еще одной концепции истории и культуры восточноевропейской лесостепи в скифское время, восходящей к работам М.И. Ростовцева. Как уже говорилось ранее,на московской конференции ИИМК 1952 г. А.И. Тереножкин вполне определенно высказался против основной идеи Б.Н. Гракова и А.И. Мелюковой о сосуществовании на Юге Восточной Европы двух самостоятельных археологических культур скифского времени - степной, собственно скифской и лесостепной,оседло-земледельческой, оставленной северными соседями скифов. По его мнению, здесь получила развитие единая скифская культура, в своей основе принесенная скифами-иранцами из глубин Азии не только в степь, но и на территорию восточноевропейской лесостепи. В концентрированном виде эта концепция была изложена им на Второй московской конференции по проблемам скифской археологии в 1967 г.30. Ее суть сводилась к идее существования в степи и лесостепи Северного Причерноморья VII-III вв. до н.э. не двух культур, а двух различных хозяйственных укладов (кочевого и земледельческого) одного населения - скифов (соответственно кочевников в степи и земледельцев в лесостепи). Наличие локальных вариантов в культуре лесостепи скифского периода А.И. Тереножкин объяснял сохранением пережитков традиций предшествующего предскифского периода. Но он допускал, что политически и культурно еди¬ная Скифия все же, очевидно, имела разноэтничное население.
Идея А.И. Тереножкина о единстве скифской культуры в степи и лесостепи нашла конкретное воплощение в исследованиях В. А. Ильинской. Детально изучив материалы раскопок знаменитых посульских курганов, она пришла к заключению о их скифской принадлежности . По ее мнению, здесь мог находиться архаический скифский Геррос или дружинные кладбища группы родственных племен, живших по Суле, Пслу, Сейму. В любом случае, посульские курганы рассматривались ею как памятники, оставленные ираноязычным населением, входившим с начала VI в. до н.э. в состав Скифии. Тот же подход продемонстрирован В. А. Ильинской в монографии о раннескифских курганах в бассейне р. Тясмин . Взгляды А.И. Тереножкина и В. А. Ильинской получили развитие в концепции культуры украинской лесостепи, изложенной в итоговой монографии , а также в написанных ими главах в академических изданиях по истории и археологии Украины. В последних исследованиях в соответствии с идеей существования в степи и лесостепи единой скифской культуры нескифские племена (невры, андрофаги, ме-ланхлены, будины) отодвигались к северу и северо-востоку, за пределы украинской лесостепи. В лесостепи же оставались только скифы-пахари (в Правобережье Днепра) и скифы-земледельцы (в Левобережье). Но размещение последних столь далеко на север явно противоречило геродотовой традиции, хотя и было принято некоторыми учеными (Б.А. Рыбаков и др.).
В 80-е годы XX в. в украинской, а затем и в российской археологии начинает возрождаться и модифицироваться первая (по времени возникновения) концепция Лесостепной Скифии. Еще М.И.Ростовцев попытался объяснить наличие в лесостепи ярких курганных погребений с воинским и всадническим инвентарем фактом завоевания пришлыми скифами-иранцами автохтонного земледельческого населения. В середине XX в. П. Д. Л иберов впервые профессионально пранализировал курганы скифского времени Днепровского Правобережья и пришел к хорошо обоснованному заключению о резкой смене погребального обряда и появлении принципиально нового инвентаря в начале VI в. до н.э.36. Эти перемены он также связал с проникновением скифов в лесостепь в самом начале скифской эпохи. К сожалению, эта ценная работа на время выпа¬ла из поля зрения скифологов, не в последнюю очередь в силу популярности концепции Б.Н. Гракова и А.И. Мелюковой.
Но постепенно и в российской, и в украинской скифологии все сильнее начинает ощущаться «реверсное» движение в сторону старой концепции скифского завоевания лесостепи. В 1980 г. раннескифские курганы Посулья получили оригинальную интерпретацию в статье группы молодых ленинградских археологов. Они акцентировали внимание на сходстве их обряда и инвентаря с большими кубанскими курганами и на этом основании предложили реконструкцию далеких сезоных перекочевок скифов-номадов с Кубани через Боспор Киммерийский в Левобережную украинскую лесостепь и обратно. С еще более оригинальной модификацией этой гипотезы выступил В.Ю.Мурзин. Он предположил, что Посульские курганы оставлены ранними скифами («скифами царскими») на начальном этапе их продвижения из степей Северного Кавказа в Причерноморье. Археолог рассматривал эти памятники как доказательство концентрации скифского населения на территории Днепровского лесостепного Левобережья в VI в. до н.э. Тем самым, казалось бы, найдено объясненение крайней малочис¬ленности раннескифских погребений в Причерноморской степи, т.е. в собственно Скифии.
Однако окончательно второе рождение названой концепции произошло, прежде всего, благодаря исследованиям С. А. Скорого в Правобережье Среднего Поднепровья. Он детально проанализировал многочисленные курганные погребения эпохи архаики и пришел к заключению об их тождестве с раннескифскими не только по инвентарю, но и по обряду . По весьма аргументированному мнению киевского ученого, они были оставлены так называемыми «старыми скифами» - первыми иранцами-номадами и их потомками, проникшими в лесостепь в VII-VI вв. до н.э. и создавшими в Правобережье скотоводческо-земледельческое объединение под эгидой военно-кочевой знати. Позже исследователь попытался выделить скифский этнокультурный компонент на посе¬лениях Днепровского лесостепного Правобережья. По его мнению, номады могли оставить следы своего пребывания на городищах в виде жилищ с округлыми основаниями типа юрт и шалашей .
Возрожденная С.А. Скорым концепция Лесостепной Скифии хорошо объясняла весьма парадоксальный факт наличия многочисленных курганных некрополей с клас¬сическим раннескифским комплексом в украинской лесостепи при их полном отсутствии в это время в степи на территории будущей Причерноморской Скифии. Она открывала новые перспективы в понимании причин и сущности образования отдельных локальных вариантов скифообразной(скифоидной) культуры, прежде всего, как результатов возникновения на территории восточноевропейской лесостепи отдельных скотоводческо-земледельческих объединений, возникших после подчинения ранними скифами-номадами групп лесостепного оседло-земледельческого населения.
С рубежа 80-90-х годов идея о длительном присутствии ираноязычных скифов в лесостепи, где они проживали вместе с автохтонным населением, становится все более популярной. Ее признают многие скифологи, в том числе, старшего поколения. Даже А.И. Мелюкова под давлением новых фактов, сначала в осторожной форме, а затем вполне откровенно стала писать о проникновении скифов в лесостепь. Пусть и с оговорками, она признала плодотворность отстаиваемой С. А. Скорым новой концепции Лесостепной Скифии, где с VII в. до н.э. доминировали пришлые скифы-номады .
Исследования С. А. Скорого получили не только поддержку, но и дополнительную аргументацию в очень интересной статье выдающегося российского скифолога Д.С. Раевского. По его предположению, начиная с архаической эпохи, отряды воинов-номадов периодически внедрялись в иноэтничные оседлоземледельческие общества в качестве скифского воинского контингента, составлявшего специализированный социальный слой. Очень плодотворным представляется и другое соображение московского исследователя о довольно жесткой сопряженности погребальных памятников с ранне-скифским комплексом, с одной стороны, и районами оседлости, с другой, где проживало значительное не кочевое население. Там, где его в то время не было (например, на Среднем Дону -А.М.), нет и курганных могильников раннескифского времени. Результатом сложного процесса взаимодействия и взаимовлияния автохтонных и пришлых групп населения со временем могли стать те локальные варианты скифообразной культуры, которые надежно фиксируются в лесостепи с конца VI в. до н.э., и которые позднее нашли отражение в геродотовой номенклатуре этносов, обитавших по северной периферии «Скифского квадрата».
Недавно С.С.Бессонова высказала продуктивную гипотезу о том, что количество скифских курганов в лесостепных могильниках и степень их концентрации соответст¬вует размерам равнинных лугово-степных пространств, а также удобным для выпаса скота поймам. Она подтверждается новейшими палеопочвенными данными по Посулью и Среднему Подонью. Исследование А.Л. Александровским погребенной почвы под одним из курганов раннескифского времени в правобережье Сулы показало, что он перекрывал древнюю степную почву при том, что к нашему времени его насыпь, как и многие посульские курганы, уже поросла дубом. Аналогичную картину выявили наши совместные с палеопочвоведом Ю.Г. Чендевым исследования стратиграфии насыпей в Староживотинном могильнике V - IV вв. до н. э. на водоразделе Дона и Воронежа, ныне целиком покрытом лесом .
Яркие свидетельства появления кочевников-скифов в правобережной украинской лесостепи недавно были получены Ю.В. Болтриком при исследовании укреплений одного из самых крупных городищ - Трахтемировского. У южного въезда на городище во рву и в валу были найдены десятки застрявших бронзовых наконечников стрел, железные панцирные пластини и железный скифский акинак. Ю.В. Болтрик видит в этих находках археологические свидетельства вооруженного нападения скифов на городище в начале VI в. до н. э. С ним он связал и ранее открытое на акрополе («Малых Валках») Трахтемировского городища коллективное захоронение, где обнаружено девять скеле¬тов взрослых и детей, положенных без соблюдения норм традиционного обряда захоронения. В этом погребении Ю.В. Болтрик и Е.Е. Фиалко склонны видеть жертвы скифского набега.
Новый взгляд на проблему Лесостепной Скифии открывают последние исследования А.Ю.Алексеева. Он предложил весьма смелую концепцию «двух Скифий»: Скифии Древней VII - VI вв. до н.э. и Скифии Геродотовой (Новой) V - IV вв. до н.э. . Первую представляют памятники скифской архаики, концентрирующиеся главным образом в лесостепи, вторую - классические скифские древности Степного Причерноморья. Петербургский исследователь обратил внимание на существенные культурные различиях между раннескифским (по существу лесостепным) и классическим степным комплексами. Хронологическим рубежом, разделяющим Древнюю и Классическую Скифию, стал конец VI-начало V в. до н.э. Этническое содержание двух Скифий, видимо, не было совершенно тождественным. А.Ю. Алексеев напомнил о несовпадении этнической номенклатуры Гекатея, чье фрагментарное описание, видимо, относится еще к Архаической Скифии, с этнической картой Геродота, запечатленной около середины V в. до н.э. По его оценке весь комплекс культуры Древней Скифии являлся скорее киммерий-ско-скифскими, тогда как скифы времени Геродота (да и после него) уже сами называли себя сколотами.
Я остановился на анализе взглядов тех исследователей, которые, как кажется, уже в наше время внесли нечто принципиально новое в понимание этнокультурной и социальной природы Лесостепной Скифии. Даже из краткого обзора литературы двух последних десятилетий видна объективная трудность вопроса о конкретном этническом и социальном ее содержании. Тем не менее, следует признать в основном решенным положительно вопрос о физическом присутствии «ранних скифов» в украинской лесостепи с VII в. до н.э. В археологическом аспекте Лесостепная Скифия VII-VI вв. до н.э. стала все чаще рассматриваться не как область распространения раннескифского культурного комплекса на фоне местного оседлоземледельческого субстрата, а как результат сложного взаимодействия этих двух начал. У многих скифологов больше нет сомнений в том, что археологическую культуру раннескифской лесостепи изначально представляло как автохтонное, так и пришлое население. При этом становится все более очевидным не только политическое, но и культурной доминирование последнего, что в конечном итоге привело к определенной «скифизации» культуры лесостепи, даже если типичные для ираноязычных номадов вещи, изготавливались местными мастерами.
Яркие и многочисленные раннескифские курганные комплексы Правобережья и Левобережья Среднего Поднепровья свидетельствуют о том, что по существу именно украинская лесостепь была той Старой Скифией (в археологическом смысле этого понятия), которая стадиально предшествовала Степной Скифии Геродота V - IV вв. до н.э. Гипотеза А.Ю. Алексеева о двух Скифиях имеет право на существование, причем не только в хронологическом аспекте. Я уже обращал внимание на то обстоятельство, что многие культурные традиции первой продолжали сохраняться и развиваться в лесостепи и в V, и даже в IV в. до н. э., когда в Степном Причерноморье всецело владычествовали «скифы царские» с несколько иным культурным комплексом. Но, как свидетельствует весь накопленный к концу XX в. материал, и в это время потомки «ранних скифов», в той или иной степени смешавшиеся с автохтонным населением, продолжали существовать и сохранять свою власть в большинстве районов лесостепи. На это прямо указывают факты продолжения использования старых некрополей в классическую эпоху (Посулье) и появление новых могильников (Средний Дон), где сохранялись многие традицией старой лесостепной обрядности. Вплоть до финала скифской культуры как таковой в лесостепных курганах продолжали совершать захоронения по обряду и в погребальных сооружениях тех типов, которые появились здесь вместе с первыми поколениями ираноязычных номадов еще в VII в. до н.э. Сосуществование на протяжении двух веков степной и лесостепной культур, отличающейся от первой не только наличием памятников оседлости, но и сохранением многих архаических традиций, служит до¬полнительным основанием их дальнейшего изучения в рамках концепции Лесостепной Скифии.
Но однозначное решение затронутой здесь проблемы осложняется тем, что мы достоверено не знаем, были ли носители археологического «раннескифского комплекса» действительно этническими скифами. Античная традиция в лице Геродота дает нам целый перечень племен на северной периферии Скифии, которые вели скифский образ жизни, но, с его точки зрения, скифами не назывались. Да и для более раннего периода VII-VI вв. до н.э. у нас нет никаких прямых свидетельств, что носителями «раннескифского культурного комплекса» на Юге Восточной Европы были именно (или только) скифы. Ряд исследователей, в частности, А.Ю.Алексеев, полагают, что среди них могли быть и киммерийцы. Могли быть и рано отделившиеся от скифов гелоны второй этно-гонической скифской легенды (Herod. IV. 9-10). Однако дело даже не в расхождении мнений ученых по этому вопросу. Гораздо существеннее то, что ни один античный ав¬тор ранее V в. до н. э. не называет скифов среди обитателей Северного Причерноморья. Скифию знают Гесиод (судя по схолиям), Алкей и Гекатей. Но даже у Гекатея в его описании Европы мы не найдем ни одного упоминания собственно скифов, но есть только племена («меланхлены», «миргеты» и др.), которые всегда сопровождаются по¬яснением - «народ скифский ('sQvo<; SKUOIKOV). НО, как известно, точно такие же пояснения сопровождают у Гекатея названия не этнического, а географического характера, например «Каркинитида — город скифский» (Jacoby, fr. 184). Впервые скифы как вполне конкретный и многочисленный этнос упоминается вокруг Меотийского озера лишь у Эсхила (Prometh.: 417), а вскоре после него появляется знаменитый «Скифский логос» Геродота. Что стоит за молчанием древнейших источников о «ранних скифах» - реальное их отсутствие в степном Северном Причерноморье до конца архаической эпохи, что вроде бы подтверждают и данные археологии, или же неполнота и фрагментарность дошедшего до нас «Землеописания» Гекатея и других ионийских источников -сказать трудно. В пользу первого свидетельствуют весьма ранние представления греков о причерноморском регионе как изначально пустынной, ненаселенной людьми стране (Herod.: IV. 5, 8) или земле, опустевшей после бегства киммерийцев (Herod.: IV. 11). Впрочем, это уже тема другого исследования.
Подведем итоги. В археологии раннего железного века восточноевропейской лесо¬степи к началу XXI в. не только накоплен огромный фактический материал, но и сформулированы две основные концепции, по-разному объясняющие скифообразный (скифоидный) облик лесостепных культур:
1.«автохтонная» - подчеркивает определяющую роль местного этнокультурного компонента, лишь испытавшего воздействие скифской культуры и сумевшего сохранить независимость и самобытность до конца скифской эпохи (Б.Н. Граков, Б. А. Шрамко);
2.«скифская» - объясняет явную близость субкультуры больших курганных некрополей собственно скифской культуре прямым присутствием скифов в лесостепи и включением ее частично (В. А. Ильинская) или полностью (М.И. Ростовцев, в наше время особенно В.И. Гуляев) в политическую систему Скифии.
Но ни та, ни другая концепция удовлетворительно не объясняет всей суммы накопленного эмпирического материала и, тем более, не раскрывает механизма формирования скифоидной культуры в глубинных лесостепных район
В начале I тыс. до н. э. на юге Восточной Европы наступила новая эпоха - ранний железный век. Использование этого металла, на первых порах вынужденное, со временем привело к весьма радикальным переменам в жизни людей, их материальной и духовной культуре. С наступлением железного века производительные силы древних обществ поднимаются на качественно новую ступень развития. В восточноевропейской лесостепи, как никогда ранее, получает развитие пашенное земледелие, о чем прямо свидетельствуют античные источники (Herod.: IV. 17), археологические находки деревянных плугов и их глиняные модели. В степной полосе исторические перемены, вызванные наступлением железного века, проявились, прежде всего, в форме распространения кочевничества. Его основу составляло экстенсивное скотоводство в условиях постоянных сезонных перекочевок. В I тыс. до н. э. кочевое скотоводство оказалось весьма прогрессивным типом хозяйства, оптимально приспособленным к природно-климатическим условиям степной зоны Северного Причерноморья. С VII - VI вв. до н. э. в силу ряда причин номады оказывались доминирующими этносами не только в военно-политической, но и культурной жизни этого обширного региона, что проявилось и в традиционой археологической периодизации его истории {скифская эпоха, сарматский период и т.п.). Сейчас становится все более очевидным, что их политическое и культурное влияние распространялось далеко за пределы собственно степной зоны, в том числе, на всю лесостепь.
В отличие от племен, населявших европейские степи и лесостепи в бронзовом веке и известных только по условным названиям археологических культур, античные авторы сохранили подлинные этнонимы скифо-сарматской эпохи. Это далеко не случайно, так как именно тогда народы нашей страны впервые выходят, а точнее буквально врываются, на арену Всемирной истории и вступают в прямые контакты с ассирийцами и вавилонянами, греками и римлянами. Благодаря их хронистам и историкам до нас дошли имена киммерийцев, скифов, савроматов, сарматов и многих других степных этносов. К северу от них, в восточноевропейской лесостепи обитали земледельцы и скотоводы, такие как будимы, гелоны, меланхлены, невры. В отличие от ираноязычных скифов и сарматов этническая и языковая принадлежность их северных соседей далеко не всегда может быть надежно установлена из-за скудности исторических свидетельств, имеющихся в распоряжении исследователей.
Широкое распространение строгой конской упряжи, железного меча и другого оружия ознаменовало в истории Юго-Восточной Европы начало новой «героической эпохи». И античная традиция, и археология свидетельствуют, что война и организация населения для войны теперь становятся почти повседневным атрибутом жизни не толь¬ко номадов, но и значительной части лесостепного населения. «У нас ведутся постоянные войны, мы или сами нападаем на других, или выдерживаем нападения, или вступаем в схватки из-за пастбищ или добычи... » - так оценивал повседневную жизнь номадов их современник - скифский мудрец Токсарис (Luc, Тох: 36). В археологии ранних кочевников «героическая эпоха» нашла отражение в целом ряде принципиально новых явлений. Сразу бросается в глаза резкая военизация многих сторон жизни и быта, особенно при сравнении с археологическими памятниками предшествующего периода поздней бронзы. С наступлением раннего железного века в курганные погребения попадает очень много оружия, причем не только наступательного, но и оборонительного. Впервые появляется полная паноплия, защищавшая воина с головы до ног. Вместе с оружием часто встречаются детали снаряжения коня - бронзовые, а затем железные удила, псалии и пр., свидетельствующие о том, что в раннем железном веке лошадь стала доступна практически каждому, в том числе, и рядовому номаду, а не одной лишь знати, как это было в эпоху бронзы. Последнее нововведение не только позволило скотоводам совершать со стадами далекие сезонные перекочевки, но и явилось одной из объективных технических предпосылок военного превосходства номадов над соседним оседло-земледельческим населением.
Эпохальные перемены наблюдаются и в лесостепи. Постоянная угроза с юга, со стороны воинственных кочевников порождает в VII - VI вв. до н.э. массовое строительство городищ. До наступления железного века этого типа археологических памятников Восточная Европа практически не знала. К середине I тыс. до н.э. за стенами хорошо укрепленных городищ, да и вокруг них наблюдается несравненно большая концентрация населения, нежели на самых крупных поселениях предшествующей эпохи бронзы. В лесостепи большие и малые городища, связанные с ними открытые поселения и курганные могильники со временем составляли локальные микрорайоны памятников, обычно занимающие долину и присклоновые местности той или иной реки. Новые явления наблюдаются в селитебных планировочных структурах, которые приобретают двух-, а то и трехуровневый характер. Как известно, последние уже больше свойственны эпохе цивилизации.
Как бы мы сейчас не оценивали все эти памятники скифского времени с позиций формационного или цивилизационного подхода, следует признать, что объективно они свидетельствуют о каком-то качественно ином состоянии общества по сравнению с эпохой бронзы. Не вызывает сомнений наличие в лесостепных обществах раннего железного века сильных властных структур, способных подвигнуть их к выполнению титанических по объему строительных работ по сооружению больших, а то и просто гигантских городищ, таких как, как Матронинское (200 га), Трахтемировское (630 га), Немировское (1000 га), Большое Ходосовское (2000 га), не говоря уж о знаменитом Вельском городище площадью 4400 га. По-видимому, прямым археологическим отражением новых потестарных структур являются расположенные поблизости от лесостепных, а с V в. до н.э. - и степных городищ большие аристократические могильники, содержащие курганы «царского» ранга. Они служат наглядным показателем концентрации власти и богатства в руках «царей» и их «номархов», которые по размерам погребальных сооружений и роскоши сопровождающего инвентаря не имеют аналогов даже в памятниках более поздних «кочевых империй» Средневековья.
Комплексный анализ массовых археологических источников в последнее время позволяет выявить еще одно принципиально новое явление в жизни населения юга Восточной Европы в раннем железном веке. Оно проявляется в характере разделения труда между подвижными скотоводами и оседлым земледельческо-пастушеским населением. В эпоху бронзы между ними еще не ощущалось сколь-нибудь существенной обособленности этнокультурного и социального плана. Видимо, тогда разделение труда осуществлялось внутри общины, проживавшей на одном поселении: одна ее часть жила оседло, другая, сопровождая стада, вела подвижный образ жизни. Иная ситуация сложилась на юге Восточной Европы в раннем железном веке с появлением номадов. Специализированное кочевое хозяйство уже по самой его природе не могло обеспечить их всем необходимым и, прежде всего, продуктами земледелия и ремесла. Поэтому кочевники стремились подчинить себе оседлое, как правило, иноэтничное население, а затем насильственно включали его в свою хозяйственную систему. Со временем на Юге Восточной Европы сложилось межзональное разделение труда. Видимо, на этой основе возник феномен ранней скифской государственности, где доминировали даннические и так называемые дистанционные (война, грабеж, вымогательство «подарков») формы эксплуатации воинственными кочевниками оседлоземледельческого населения не только в степи, но и в лесостепи. Привыкший выпасать свой скот кочевник легко становился, по выражению А.Тойнби, «пастырем» местного «человеческого стада». На мой взгляд, наглядным археологическим свидетельством существования в раннем железном веке именно такого экзополитарного (то есть направленного «вовне») или, по новой терминологии Н.Н.Крадина, ксенократического способа производства могут служить уже упоминавшиеся большие курганные могильники номадов (или бывших номадов) в лесостепи типа посульских или среднедонских, сооружавшиеся по соседству с городищами, где проживало оседлое земледельческо-скотоводческое население.
Вся совокупность имеющихся в распоряжении современных исследователей данных указывает на то, что в начале железного века на юге Восточноевропейской равни¬ны появляются первые раннеклассовые общества и государства. Древнейшим из них было Скифское царство, надежно засвидетельствованное как письменными, так и археологическими источниками. В отличие от синхронных ему греческих полисов Причерноморья, куда классовое общество и государство были принесены эллинами в форме полисного строя в готовом виде, скифская государственность возникает самостоятельно, на местной основе в результате сложного, скорее всего,вынужденного симбиоза номадов и оседлоземледельческого населения. Именно наличие относительно устойчивой потестарной организации объясняет ту значительную роль, которую скифы играли в экономической, политической и культурной жизни региона и соседних народов и государств. Скифы оказали сильнейшее влияние на историю, культуру и судьбы не только степного, но и лесостепного населения Восточной Европы, в том числе, и на племена Среднего и Верхнего Дона. Последние составляли отдаленную, но отнюдь не глухую периферию Скифского мира. Об этом прямо свидетельствуют яркие находки из среднедонских курганов типа Частых, получившие всемирную известность и вошедшие практически во все издания шедевров скифской культуры.
Настоящий сборник включает десять работ по археологии и истории Лесостепной Скифии и смежной проблематике, написанных мною в последние годы. Каждая из них вполне самостоятельна, хотя в той или иной степени тематически связана с другими. Отсюда и некоторые повторы в изложении материала и взглядов автора, особенно в тех частях, которые были опубликованы ранее как самостоятельные статьи. В силу моих давних научных интересов большинство затронутых здесь проблем освещаются через призму среднедонских древностей, как бы из самого дальнего северо-восточного угла «Скифского квадрата». При всем сюжетном разнообразии их объединяет одна тема -стремление понять социальную и этническую природу того историко-культурного феномена, за которых закрепилось условное название «Лесостепная Скифия». По моему глубокому убеждению, ее успешное изучение на современном научном уровне может обеспечить только комплексный подход, базирующийся на привлечении результатов анализа всех доступных исследователю видов источников. Поэтому из настоящего издания я намеренно убрал археологические работы публикационного характера, отдав приоритет исследованиям итоговым и дискуссионным. Автор уверен, что познание любого явления возможно лишь на широком сравнительно-историческом фоне. Отсюда диахронный подход к скотоводческим обществам степной и лесостепной зон Восточной Европы, который освещается в двух последних статьях. Ряд исследований подготовлен в последние годы при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 03 - 01 - 00044а) и Министерства образования Российской федерации (проект № Г02 - 1.2 - 510).
 Здание музея находится по адресу:
Здание музея находится по адресу:
Воронежская область, Хохольский район, с.Костенки, ул.Кирова, 6А
Дирекция: 394030, г.Воронеж,ул.Кольцовская, 56А
Телефон в г.Воронеже: (4732)20-55-26
e-mail:
Режим работы: музей работает сезонно с 1 мая по 30 октября.
Часы работы: 10.00 -18.00
Выходной: понедельник.
Санитарный день: каждый последний вторник месяца. Все праздничные дни указанного периода работы являются рабочими (кроме понедельника).
 Уже тридцать лет в Воронежском государственном педагогическом университете действует археологическая служба. Ее становление и развитие тесно связано с научной и педагогической деятельностью профессора, доктора исторических наук Арсена Тиграновича Синюка.
Уже тридцать лет в Воронежском государственном педагогическом университете действует археологическая служба. Ее становление и развитие тесно связано с научной и педагогической деятельностью профессора, доктора исторических наук Арсена Тиграновича Синюка.
В истоках исторического пути вузовской археологии стоял студенческий археологический кружок. Многие нынешние учителя школ Воронежа и области, а также преподаватели исторического факультета ВГПУ сформировались как педагоги и ученые благодаря своей творческой работе в кружке.
 Адрес: 397970, Воронежская область, Лискинский р-н, хут. Дивногорье
Адрес: 397970, Воронежская область, Лискинский р-н, хут. Дивногорье
Телефон: (47391) 59-2-01.
Проезд: Железнодорожным транспортом: Воронеж-Лиски; Лиски-Алексеевка (ост. "143 км"), Лиски-Острогожск. Автотранспорт: Воронеж-Лиски-Дивногорье, Воронеж-Острогожск-Дивногорье

Адрес: ул. Донбасская д.23, (вход с торца здания, западная сторона, 4 этаж);
Контактные тел: 71-79-96, 94-86-51;
e-mail:
“Центр славянской культуры” с названием “Дом Сварога” открыт в Воронеже по инициативе местной организации ветеранов РУБОП. Языческий центр занимает три зала общей площадью 300 кв.м в здании городского торгового центра “Ярмарка”.
 Биологический учебно-научный центр "Веневитиново" расположен в 20 км от г. Воронежа, в Усманском бору, на правобережье реки Усмани. Его площадь - 9,6 га. Он был создан в 1946 г. под руководством профессора И.И. Барабаша-Никифорова как зоологическая станция, которая в 1996 г. получила современный статус.
Биологический учебно-научный центр "Веневитиново" расположен в 20 км от г. Воронежа, в Усманском бору, на правобережье реки Усмани. Его площадь - 9,6 га. Он был создан в 1946 г. под руководством профессора И.И. Барабаша-Никифорова как зоологическая станция, которая в 1996 г. получила современный статус.
Основные направления работы биоцентра: проведение учебных и производственных практик студентов биолого-почвенного факультета, выполнение курсовых, дипломных, магистерских и аспирантских работ, проведение научных биологических и экологических исследований, пропаганда экологических и природоохранных знаний. За весь период существования биоцентра вышли в свет более 900 научных и методических публикаций, выполненных на его базе, в том числе ряд крупных монографий и учебных пособий. За последние 12 лет опубликованы 18 выпусков научных трудов биоцентра.
 Адрес: 399240, Липецкая область, Задонский район, п/о Донское, Заповедник "Галичья гора",
Адрес: 399240, Липецкая область, Задонский район, п/о Донское, Заповедник "Галичья гора",
Тел./Факс: +7 (4747-1) 33-3-65, +7 (4747-1) 33-8-33,
E-mail:
Заповедник "Галичья Гора" организован 8 апреля 1925 г., является структурным подразделением Воронежского университета I категории и является по своему статусу природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением. Заповедник состоит из 6 территориально разобщенных участков общей площадью 234 га (Морозова гора, Галичья гора, Воргольское, Воронов камень, Быкова шея, Плющань).
 Ботанический сад Воронежского госуниверситета - основанный в 1937 г. - единственное научное учреждение в Центрально- Черноземном регионе ведущее исследовательскую работу по интродукции растений; по выявлению в природной флоре хозяйственно- ценных видов и их всестороннему изучению; по сохранению и обогащению растительности региональной и мировой флоры, по разработке научных основ рационального использования и охраны растительных ресурсов.
Ботанический сад Воронежского госуниверситета - основанный в 1937 г. - единственное научное учреждение в Центрально- Черноземном регионе ведущее исследовательскую работу по интродукции растений; по выявлению в природной флоре хозяйственно- ценных видов и их всестороннему изучению; по сохранению и обогащению растительности региональной и мировой флоры, по разработке научных основ рационального использования и охраны растительных ресурсов.
Основателем ботанического сада был один из крупнейших ботаников мира, профессор ВГУ, член-корреспондент АН СССР Б.М. Козо-Полянский. Вместе с Козо-Полянским работали выдающиеся ученые Левина Р.Е., Замятин Б.Н., Голицын С.В., Марфин Ф.С., Руцкий И.А. и другие. В разные годы БС возглавляли профессор Машкин С.И., Киреичев А.Н., Архангельский И.П., Николаев Е.А. В настоящее время директором сада является профессор Щеглов Д.И.
 Последний год во всем мире наблюдается большой интерес к истории Подонья. Этот интерес возник после ряда публикаций в российских и американских СМИ. Так в российской газете «Караван+я», которая вышла в начале декабря 2006 года были напечатаны отрывки из новой книги известного политолога Геннадия Климова. В книге приводилась реконструкция истории человечества в периоде от 45 до 7 тысяч лет назад. По мнению Геннадия Климова люди той поры ни в чем не уступали сегодняшним людям, а во многом их превосходили. Ведическая цивилизация, центр которой по мнению Геннадии Климова располагался вдоль реки Дон на территории современной Воронежской области, простиралась от Атлантики до Тихого океана. . Ровно через месяц 11 января 2007 года в американском журнале "Сайнс" появляется статья профессора Джона Хоффекера из университета штата Колорадо о том, что в Костенках (ныне – село в Воронежской области) найдены доказательства того, что современный человек обитал в этой местности уже 45 тысяч лет назад.
Последний год во всем мире наблюдается большой интерес к истории Подонья. Этот интерес возник после ряда публикаций в российских и американских СМИ. Так в российской газете «Караван+я», которая вышла в начале декабря 2006 года были напечатаны отрывки из новой книги известного политолога Геннадия Климова. В книге приводилась реконструкция истории человечества в периоде от 45 до 7 тысяч лет назад. По мнению Геннадия Климова люди той поры ни в чем не уступали сегодняшним людям, а во многом их превосходили. Ведическая цивилизация, центр которой по мнению Геннадии Климова располагался вдоль реки Дон на территории современной Воронежской области, простиралась от Атлантики до Тихого океана. . Ровно через месяц 11 января 2007 года в американском журнале "Сайнс" появляется статья профессора Джона Хоффекера из университета штата Колорадо о том, что в Костенках (ныне – село в Воронежской области) найдены доказательства того, что современный человек обитал в этой местности уже 45 тысяч лет назад.
 Узнав в новостях о мегалитических сооружениях в Таловском районе, мы связались с местным историком и археологом И. Филатовым. В экспедиции с нами был глава Воронежского центра энергоинформационных исследований (www.eniovrn.ucoz.ru) – А.Н. Сухоруков, наш давний хороший друг и союзник.
Узнав в новостях о мегалитических сооружениях в Таловском районе, мы связались с местным историком и археологом И. Филатовым. В экспедиции с нами был глава Воронежского центра энергоинформационных исследований (www.eniovrn.ucoz.ru) – А.Н. Сухоруков, наш давний хороший друг и союзник.
Сами мегалиты расположены в Каменной степи к югу от Таловой. Недалеко от НИИ им. В.В. Докучаева. Кстати, название каменная степь связана с тем, что там было много таких камней. Сами камни были принесены на территорию каменной степи, как и в другие места, ледником много лет назад. На территории каменной степи можно найти множество курганов – захоронений эпохи бронзы, которые местные колхозники считают остатками от сторожевых башен и потому без какого-либо стеснения распахивают.